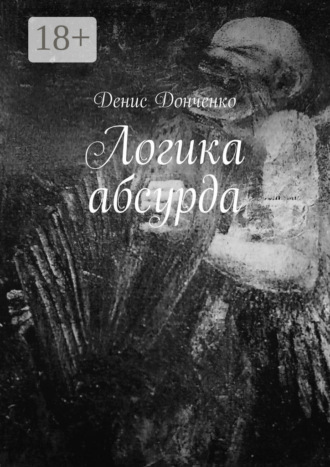
Полная версия
Логика абсурда
Данный перечень как уже, наверное, понятно читателю, отражает чисто европейскую точку зрения на Японию и, само собой разумеется, не совпадает за небольшими исключениями с истинным перечнем истинных символов этого государства, который мог бы быть составлен коренным ее жителем.
Справедливости ради, следует отметить и ряд совпадений, таких как хокку и танка, – жанры примитивного поэтического творчества, представляющие собой несколько не срифмованных и лишенных как размера, так и смысла предложений, – входящих в оба перечня. Но самое удивительное то, что европейцами все-таки был замечен, хотя и был поставлен на последнее место основополагающий, наипервейший с точки зрения японца символ его страны, а именно – национальный вид массового зрелища – Борьба Сумо.
В Борьбе Сумо, а вовсе не в умственной потенции и Фудзияме заключен весь глубинный смысл, все мировоззрение, философия и основные черты характера истинного японца. Борьба Сумо – это альфа и омега японского общества. Только через Сумо мы сможем понять, что же такое в действительности японский менталитет. Давайте же рассмотрим пристальнее это явление и в нем, как в капле росы, постараемся увидеть отражения всех сторон японской жизни.
Что же такое Борьба Сумо? Когда она возникла? Откуда взялось это странное название? В чем ее смысл? И почему она так популярна в Японии? Попробуем по порядку разобраться с каждым из этих вопросов.
В ноябре 1810 года на западное побережье острова Хонсю сезонной бурей был выброшен очередной российский бриг под названием «Бодрый». Капитан «Бодрого», мичман Ухматин, с остатками экипажа и оснастки был выловлен при помощи рыболовных снастей местными жителями, – рыбаками из Носиро. Носиряне – люди в основном простые и не злобливые не имели личной неприязни к потерпевшим. Однако, будучи гражданами законопослушными, были вынуждены запереть доблестный русский экипаж в сарае и послать гонца с известием о случившемся в отдаленное от побережья владение местного феодала, дабы тот сам решил дальнейшую участь пострадавших, так как в свете последнего указа, изданного этим вельможей, всех выловленных в море иностранцев надлежало немедленно казнить, на что у добрых носирян не хватило духу без соответствующего подтверждения. Дорога во владение вельможи была трудна, ибо изобиловала придорожными кабаками, и весть о происшествии, судя по всему, так и не достигла цели. Моряки прижились в сарае, освоились, обзавелись собственным хозяйством, овладели местными ремеслами, окончательно ояпонились и, через некоторое время оказались на свободе, так как постоянно перемешиваясь с приносившими им рис и воду носирянами, постепенно просочились наружу. Хотя общее число заключенных оставалось неизменным, к концу второго года со дня кораблекрушения, сарай, по всей видимости, был заполнен уже исключительно местным населением, что, как мы видим, не свидетельствует в пользу теории о конгениальности японцев.
Столь необычный способ освобождения, связанный с толкотней и возней в дверном проеме получил у находчивых русских моряков название – «Борьба с умом», по вполне понятным причинам.
Окончательно ассимилировав, переженившись, и наплодив крупных японских детей, экипаж доблестного брига «Бодрый» тем не менее не забыл обстоятельств своего освобождения и каждый год во время «Праздника веревочного орнамента» довершал церемониальное причащение саке импровизированными инсценировками давно минувших событий. Годы безжалостно уносили на белоснежную вершину Фудзи реальных участников этой истории. Русская «С умом» постепенно превращалась в местное «Сумо». Забывались причины возникновения забавы. Однако, приглянувшееся действо продолжало жить, передаваясь от отца к сыну, превращаясь сначала в ритуал, а затем и в национальный вид спорта.
Изначальные признаки, связанные с необычными для местного населения крупными размерами первых участников «Борьбы с умом» постепенно гипертрофировались. Борьба обрастала сложной системой правил и канонов и, к началу 20 века, распространившись на всю территорию Японии, приобрела свой нынешний вид. Глядя на современных профессиональных борцов «С умом», пихающихся внутри обозначенного волосяной веревкой круга, трудно заподозрить, что их прототипом послужил доблестный русский мичман Ухматин.
Конституция среднестатистического японца не позволяет ему достичь роста, превышающего 1 метр 60 сантиметров и набрать вес более 45 кг. Так что приходится только удивляться достижениям японских селекционеров, сохранивших и усиливших до такой небывалой мощи породу славного Ухматина. Обладая невероятным и для европейца ростом, так называемые борцы откармливаются японским государством за счет средств налогоплательщиков до веса превышающего 4 центнера и считаются в Японии национальным достоянием. Причем, в государственном бюджете Страны Восходящего солнца на откорм единоборца отведена специальная статья, защищенная законом.
Если вы спросите любого японца, – каков на его взгляд основной символ его Родины, он, не задумываясь, ответит, – победитель чемпионата по Борьбе Сумо за прошлый год и Император.
После всего вышеизложенного, мне кажется, нет особых оснований включать умственную потенцию и техническую одаренность в перечень основных символов японской нации, и стоит прислушаться к голосу простого японца, со рвением отдающего свои трудовые иены на вскармливание массивного и потного символа японской нации – ПОТОМКА РУССКОГО МОРЯКА.
Дуэль
(исторический очерк)
Этот поединок, потрясший Петербург до глубины души, случился между графом Андреем Андреевичем Волосаткиным и потомственным дворянином Андреем Петровичем Кожедубским на почве оскорблённой чести Арины Павловны, жены последнего и любовницы первого, которую первый в присутствии второго назвал б..дью. Андрей Петрович Кожедубский, защищая честь супруги, вызвал Андрея Андрееча Волосаткина на дуэль. Но поскольку оба были вольтерианцами и гуманистами, то, во избежании кровопролития, драться было решено на лёгких пощёчинах, но до победного конца, так как иначе поединок превращался бы в профанацию. Местом дуэли выбрали Чёрную Речку, ибо тамошние крестьяне были ко всему привычны, ленивы и нелюбопытны. Было девять часов утра, когда дрожки Андрея Андреевича Волосаткина и его секунданта, артиллерийского штабс-капитана Аполлинария Васильевича Усатова подкатили к условленному месту. Спустя несколько минут к условленному месту подкатили и дрожки Андрея Петровича Кожедубского с его секундантом, штабс-капитаном егерского полка Евгением Львовичем Шерстеедовым и доктором Христофором Францевичем Шпицбергенсоном. За склонность к мизантропии доктор Шпицбергенсон был одобрен обоими сторонами, как человек не предвзятый. Брезжил рассвет. Штабс-капитан Шерстеедов бросил жребий, и первым давать лёгкую пощёчину выпало графу Волосаткину. Дуэлянты разошлись на тридцать шагов, секундант дал отмашку, и граф Волосаткин и наследный дворянин Кожедубский стали сходиться. Когда расстояние между ними сократилось до длины вытянутой руки Андрей Андреевич дал сопернику лёгкую пощёчину. В предрассветной тишине прокатилось звонкое эхо и стаи галок с криком поднялись в серое небо. Вслед за этим, с таким же звонким эхом пощёчину Андрею Андреевичу дал уже Андрей Петрович, затем пощёчину дал снова Андрей Андреевич. После Андрея Андреевича пощёчину дал снова Андрей Петрович, и так далее. В два часа дня оба штабс-капитана, сев в дрожки, уехали к Гобняеву и сыновьям выпить водки и отобедать. Доктор Шпицбергенсон, будучи иностранцем, водки не пил, матом не ругался, и вообще, вёл себя странно, а потому остался приглядывать за дерущимися. В восемь вечера, когда штабс-капитаны вернулись, Волосаткин и Кожедубский, с красными лицами, продолжали наносить друг другу лёгкие пощёчины. Уже стемнело и штабс-капитаны, разведя костёр, отправились в дрожки спать, а Христофор Францевич остался следить за костром. На следующее утро господа офицеры затушили костёр и снова уехали к Гобняеву и сыновьям обедать и вернулись к девяти часам вечера, привезя доктору Шпицбергенсону половину капустного пирога. Дерущиеся, с синими лицами по прежнему продолжали наносить друг другу лёгкие пощёчины, но со значительно большим промежутком и сопровождая лёгкие пощёчины стонами, причём обоюдными, так как у дерущихся невыносимо болели как лица, так и руки. Штабс-капитаны снова развели костёр и ушли в дрожки спать, оставив доктора Шпицбергенсона следить за огнём. На утро, проснувшись, секунданты обнаружили, что дерущиеся еле стоят на ногах, и подперев их палками, офицеры уехали к Гобняеву и сыновьям завтракать и выпить водки. Доктор Шпицбергенсон снова остался следить за дуэлянтами. Когда в семь вечера штабс-капитаны вернулись, они обнаружили дерущихся лежащими друг напротив друга с чёрными лицами, а доктора Христофора Францевича бледным и осунувшимся от усталости и бессонных ночей. Дерущиеся то и дело впадали в забытьё, но были уложены доктором таким образом, что бы, придя в себя иметь возможность нанести противнику лёгкую пощёчину. Однако делали они это всё реже и реже, и в семь часов вечера доктор Шпицбергенсон констатировал, что господин Волосаткин отдал богу душу. Победившего Кожедубского, который был ещё жив, погрузили в дрожки и отвезли в Екатерининскую лечебницу, где его физическое здоровье вскоре пошло на поправку, но его душевное равновесие так к нему и не вернулось, и остаток своих дней он провёл в приюте для умалишённых. Государь-император Николай Павлович, по воспоминаниям современников с непреодолимым отвращением относившийся к дуэлям, узнав о поединке, блевал три часа, после чего своим указом внёс изменения в «свод законов уголовных», категорически запретив всякие дуэли в Российской империи. Однако, окончательно дуэли в России прекратились лишь после Великой Октябрьской Социалистической Революции, когда слово б..дь утратило своё первоначальное значение и стало общеупотребительным.
С уважением. Профессор Донченко.
Улан-муде. 20 января 2013 года.
Мать
(литературоведческое эссе)
Соседский мальчик лет десяти, ребёнок сильно пьющей женщины, дождавшись, покуда взрослые забудутся пьяным сном, включает на полную громкость хриплый доисторический проигрыватель, и поставив оставшуюся ещё от деда, зарезанного в своё время собственной дочерью, матерью нашего мальчика, пластинку, устраивает чудовищную пляску в ночи под монструозную музыку диско, надев на ноги кирзачи своего отчима. Спустя некоторое время мать, очнувшись от пьяного угара, поднимается со своего лежбища, и выдаёт мальчику богатырских дюлей, после чего ребёнок, с громким плачем и проклятиями в адрес матери, убирается спать. С монотонностью хорошо отлаженного хронометра эта картина повторяется каждую пятницу.
Этот рассказ из жизни современного рабочего класса я посвящаю великому русскому писателю Алексею Пешкову, которого, однако, несколько недолюбливаю, отчасти за его роман «Мать», повергающий читателя в уныние своим занудным нравоучительством, отчасти за «Песнь о буревестнике», удручающий своей занудной метафоричностью.
Искренне Ваш. Профессор Донченко.
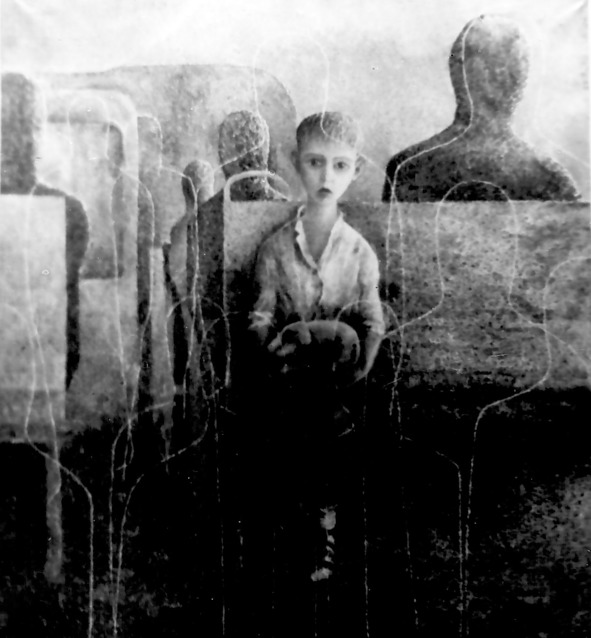
Шахтерская лошадь
(фэнтези)
Уныла и неприятна осенняя пора в Очкове. Серый дождь, не переставая, моросит из небесной хляби, и грязные лужи хляби земной отражают в себе голые осины вдоль раскисших дорог, да полчища мокрых и злых ворон, кружащих в оловянном небе. Вдоль просёлков тянутся бесконечные поля чахлого буряка, частью убранные уже, а частью поеденные зайцем. А далёко за полями, за дальними перелесками, вырастают из туманной мороси словно из ниоткуда, величественные пирамиды отработанной горной породы. Когда-то, давным-давно, в эпоху правления могучих старцев, циклопические кучи эти звались шахтами «Надежда» и «Радость», но много лет минуло с тех пор. В годы Железного Тимура «Надежду» и «Радость» закрыли, и теперь в заброшенных штольнях под терриконами ютятся лишь партизаны, те, что не пожелали признавать итоги священной войны и бросать оружие. Большинство из них молоды, и появились на свет уже после победы, а по сему о германцах знают они лишь со слов своего контуженного предводителя. Но тем не менее, каждый день, в сумерки, вооружившись шахтёрскими лопатами, выходят они на колхозные поля лакомиться буряком. Местные мужики не любят партизан, ибо вреда от них больше, чем от зайца, но терпят, и даже поймав не бьют. Кто ведает, может быть завтра закроют и твою шахту, и тогда, что бы не протянуть до весны от голода ноги, придётся и тебе уходить в партизаны. Если из райцентра доехать на автобусе до того места, где кончается шоссе, а дальше, надев говноступы, двигаться в сторону терриконов напрямик через свекольное поле, то уже через два часа, если, конечно, партизаны не отнимут говноступы, увидите вы за старыми плетнями две дюжины ветхих изб, и свора собачьих скелетов, обтянутых кожей, поджав хвосты пролают вам «велком ту Очково». Много лет назад, во времена Великой Стагнации, деревня эта процветала. В те стародавние времена, когда люди не умели ещё делиться на тех, кто имеет родину-мать, и тех, кого имеют те, кто имеет родину-мать, жизнь и здесь била ключом. Мопеды, до краёв заправленные бензином, сверкали хромом за каждым плетнём, а по вечерам, чернолицые и белозубые шахтёрские парни, вернувшись из забоя, бросали свои лопаты и перфораторы, и взявшись за гитары, пели про новый поворот. Много воды утекло с тех пор, и когда подули ветры перемен и Железный Тимур ликвидировал «Радость» Очково опустело. Все, кто мог держать лопату в руках, ушли в партизаны, и лишь старики да малые дети остались в деревне. Неуютно стало в Очково, особенно такими вот тоскливыми осенними вечерами, когда немногочисленные обитатели деревни запираются в своих хижинах, и только холодный дождь стучит по крышам заколоченных изб, да промозглый борей гоняет по пустынным улицам невесть когда и кем утерянный пожелтевший ваучер.
На самом краю деревни, там, где единственная улица, превратившись в просёлок, уходит в раскисшее поле, стоит хибара, на редкость старая и кривая даже по здешним меркам. Ветхий плетень окружает огород в две сотки, засеянный брюквой и буряком, и оба обитателя хибары, столетняя старуха Никитична да её праправнук, Ванька-сирота, семи лет отроду, вечно пахнущий диролом и дерьмом, ходят с трещотками между корнеплодов, охраняя урожай от ворон.
«Трищы громчее, Ванька! – кричит глухая старуха пацану прямо в ухо, – Съест ворона брюкву, зимою с голоду помрём!» И Ванька трещит, старается. Он любит брюкву и не хочет помирать с голоду зимой. Родителей своих Ванька не помнит, слишком был мал тогда. Знает только, что мать его была учётчицей, а отец забойщиком, да то, что во время аварии на шахте обоих их убило одной вагонеткой. Что такое учётчица, забойщик, шахта и вагонетка Ванька понятия не имеет, ибо с тех пор как Железный Тимур закрыл «Радость» прервалась связь времён. «Всё, Ванька, кончай трещать, стямнело! – кричит старуха мальчишке в лицо, – Кончились наши мученья, ворона спать пошла! Сбегай, посри, да айда в хату, будем завтра урожай собирать!» Ванька, по-заячьи подпрыгивая, бежит в лопухи за хибару, а старуха утиной походкой семенит вслед за ним. Ветхий сортир переполнен, и нет мужицких рук что бы вырыть новый, а посему оба они, стар и мал, усевшись рядком в бурьяне, торопливо испражняются под осенним ливнем. «Поспяшай, Ванька, чай не презедент! Неча рассиживать, промокнем!» -подгоняет Никитична мальчишку. И вот уже закрыты наглухо двери хибары, и в тусклом свете лучины пляшут на оконном целлофане две тени, большая и маленькая.
Те, кому доводилось нынче бывать в шахтёрских избах, знают, сколь непритязателен их быт. В сенях лопата да каска с фонарём, тринадцати дюймовый Самсунг первого поколения на русской печи, да ещё в горнице, в серванте, старинный сервиз из ГДР, да томик Донцовой. Да только не идёт это всё ни в какое сравнение с убогим жилищем Никитичны. С тех пор, как зятя убило вагонеткой, остался у старухи в хозяйстве лишь старый стол, да лавка, почерневшая от времени, а на лавке, под рогожей, самогонный аппарат, сделанный Ванькиным отцом смеха ради из велосипедной рамы и рукомойника. Вот и гонит теперь старуха на этом аппарате свекольный самогон, да меняет его у партизан на соль да учебники для внука. Хоть сама Никитична и необразованна, в школе не училась, да и когда ей было учиться, то война, то революция, то всей страной рыли большую траншею, но есть у старухи заветная мечта – не желает она отцовской доли Ванюшке, хочется ей что бы закончил внук горный техникум и ходил в каске белой сменным мастером по новой шахте. На стене, чёрной от копоти, над самым самогонным аппаратом, висит в засиженной мухами раме фотография Ванькиных родителей. Слева зять, худой парень с лицом Ринго Стара и усами а ля Песняры, справа Ванюшкина мать, полнощёкая красавица с косой толщиной в руку. Ходит бабка по избе, делает свои старушечьи дела, а как взглянет на стену, так и прослезится. Поглядит после этого на Ваньку мокрыми глазами, поглядит, да и подложит внуку брюквы из своей тарелки. Ест Ванька брюкву деревянной ложкой, а Никитична подгоняет: «Давай, Ванюшка, ешь скорее, да спать айда, ужо вставать завтра рано. Урожай собирать пойдём.» «Баб, а баб, а ты сказку расскажешь? – пристаёт Ванька к старухе, – А то не усну!»
– « А кокую ж тебе, Ванюшка, сказку?»
– " А про шахтёрску лошадь!»
«Про шахтёрску лошадь? – вздыхает старуха, – Ну ладно, про лошадь так про лошадь». И они, укрывшись рогожей, укладываются на печи. «Давным-давно, ящо при кадетах, – начинает Никитична, -за тридевять земель, жила в заброшенной шахте шахтёрска лошадь. И была та лошадь зело борза, и до еды зла вельми. А глаз у той лошади не было, потому как на что лошади глаза, она ж не художник и не шофёр, чаво ей там глядеть! Ну вот, а копыта у той лошади были как у Стоханова, и как почует она, что брюква где, аль бутерброды кто принёс, так сразу шасть туды, и отымет!»
«Баб а баб, что такое бутерброды?» – перебивает Ванька.
– « Цыц, пострел, лежи тихо, а то говорить не буду!»
Но Ваньке очень страшно, и он не унимается: " Баб, а баб, а шахтёрска лошадь к нам не приползёт?» Ванюшка волнуется, вспомнив про недоеденную брюкву, оставленную на столе.
«Не приползёт.» – успокаивает его старуха.
– " А почему не приползёт?»
– " Да далеко шибко, не доползёт. Ты давай, Ванька, засыпай лучше, а то вставать завтра рано.»
Никитична зевает беззубым ртом, и уже спустя минуту громкий храп её оглашает избу. Через некоторое время, поворочавшись малость, засыпает и Ванюшка. И тогда, в ночной тиши, между приступами старушечьего храпа, становится слышно как унылый дождь стучит по дранке на крыше, да бегает в сенях по дну оцинкованной параши случайно упавшая туда мышь.
Той ночью разыгралось ненастье в Очкове ненашутку. Прорвало словно небеса над деревней, и шквалистый ветер рвал дранку, и метал с размаху целые вёдра воды и грязи в стены домов. И отзывались заброшенные избы, гудели печными трубами, и плакали жалобно ржавыми петлями на ставнях. А гроза грохотала всё сильнее, всё яростнее. И казалось порою, будто это сам Небесный Борис громыхает над деревней в своём жестяном мерседесе, и глядя вниз хохочет, хохочет, указуя кривым перстом на заколоченный сельсовет. А когда остановил он свою колымагу прямо над домом Никитичны, да переломил со страшным треском об колено древко копья, то сотряслась изба, и проснулся от грохота Ванька на печи. Вылез из под рогожи, сел, и смотрит недоумевая в темноту. И не понимает Ванька, где он и что с ним, сон ли это или явь, а ежели сон, то чей? Может, снится всё это, и сам он, и тёмная изба лежащей рядом бабке, а он лишь подглядывает случайно её сновидения. И в эту минуту слышит вдруг Ванюшка странное чавканье под полом, как будто кто-то там жуёт глинозём. «Шахтёрска лошадь!» – понимает Ванька, чувствуя, как леденящий душу, древний ужас забирается под рубашку. И тут, в свете молнии, видит мальчонка прижавшееся к оконному целлофану страшное лошадиное лицо с шариками для пинг-понга вместо глаз. Комья глины прилипли к его бледным щекам, а раздутые ноздри жадно втягивают целлофан, пытаясь учуять брюкву на Ванькином столе. «Баба! Баба! – кричит Ванька, толкая старуху в бок, – Проснись, там шахтёрска лошадь пришла!» Бабка нехотя просыпается. Спросонья она зла и раздражительна и шипит на внука: «Чаво разорался, дурак! Щас дам по жопе, будет тогда тебе шахтёрска лошадь! Ремня отцовского давно не видал, пострел! Спи!» Упоминание отцовского ремня развевает чары. Глядит Ванька снова на окно, да только нет там никого, пропала лошадь! Залезает он тогда под свою рогожу, да и засыпает сызнова.
Утром проснулась Никитична поздно. Ванюшку сразу будить не стала. Слезла, кряхтя, с печи и поплелась до ветру. А когда вышла на крыльцо, то страшным воем, таким, какого не слыхала очковская земля со времён Ярославны, огласила старуха окрестности. Взмыли в небо испуганные галки, и на вопль этот нечеловеческий выскочил из избы без подштанников заспанный Ванька, да так и остался стоять остолбенелый. Никогда не видал ещё Ванюшка на своём коротком веку такого опустошения! Не узнать ему было родного огорода! Бессильно свисала пожухшая ботва, и по всему было видать, что то, к чему она крепится под землёй уже не существует. Зато громоздились повсюду свежевырытые земляные кучи, наподобие кротовьих, но только в тысячу раз большие, и расходились из огорода пунктиром, уронив плетень, с одной стороны на северо-запад, к заброшенным шахтам, а с другой стороны на юго-восток, за деревню, во чисто поле. И там, где уходили они во чисто поле разбросаны были надкусанные буряки, да дымила ещё на холодке могучая куча конских яблок. До самого обеда ползали бабка с внуком по огороду, пытаясь спасти что уцелело. Да где там! Почти всё поела шахтёрская лошадь, а что не смогла поесть, то надкусила, так что либо сразу вари, либо выкидывай, потому как всё равно пропадёт, сгниёт через неделю. Полведра брюквы, да полведра буряка, вот и весь урожай! И стало ясно Никитичне как божий день, что не видать теперь Ваньке ни горного техникума, ни белой каски мастера, а вместо этого, что бы с голоду не околеть, одна теперь у сироты дорога – на шахту Новую, к тамошнему верхнему менеджеру, в пидоры. Потому, как помнила Никитична мудрость шахтёрскую, мудрость старинную, слезами людскими омытою, что «лучше пидором в правленье, чем воронам на кормленье». Ну а ей то, старой, куда? Тоже теперь у неё одна дорога, к Ванькиным родителям, на погост. И такая неизбывная, вековая тоска навалила тут на старуху, что села Никитична на земляную кучу, да и зарыдала в голос. Так и просидела бабка на куче до самого вечера, а когда уже стало смеркаться, появились у её плетня со стороны заброшенных шахт два молодых партизана с перфораторами наперевес, волочивших за собой длинную ржавую цепь со строгим ошейником на конце. Постояли, улыбаясь глупо, с виноватым видом у поваленного плетня, а затем подошли к старухе, и рассказали, видать в утешение, что, мол, прохудилась старая цепь, ну и сорвалась с неё бестия во время вчерашней грозы. Пробила боковой шурф, и ушла в чисто поле, и что идут они по следу со вчерашнего дня, но за нею разве угонишься, ежели у неё копыта, как у Стаханова. А ещё, мол, в Заднем Проходове, утешали парни бабку, набезобразничала сволочь тоже, поела два огорода! Ну да только разве этим утешишь доброго человека? Ну а как узнали, что собирается Никитична Ваньку на Новую отдавать, так сами сразу и взялись довести пацана, им ведь всё равно по дороге, туда, видать, лошадь подалась. Собрала тогда бабка в котомку всю брюкву, что была, повесила котомку на Ваньку, перезвездила его трижды по старинному обычаю, да и отпустила от себя. А сама пошла в хибару, легла на печь, и стала лежать, смерти дожидаться.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

