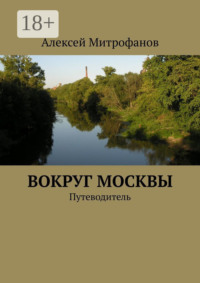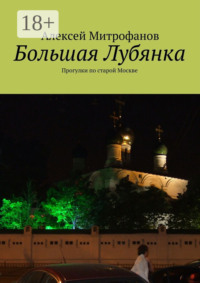Полная версия
Большая Полянка. Прогулки по старой Москве

Большая Полянка
Прогулки по старой Москве
Алексей Геннадиевич Митрофанов
© Алексей Геннадиевич Митрофанов, 2017
ISBN 978-5-4490-1737-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Замоскворечье всегда отставало от времени. Причина тому кроется в самом названии. Замоскворечье – значит, за Москвой-рекой. То есть где-то там, не в главной части города, а на отшибе. Тем более, что именно оттуда, с юга, чаще всего приходили монголо-татарские завоеватели. И, разумеется, селиться там мудрый москвич не торопился.
Как ни странно, это запоздание по времени наблюдается и сейчас.
Замоскворечье – рай для тех, кто любит путешествовать по прошлому. Здесь, например, нет сталинских высоток. Ни одной. Замоскворечье вообще приземисто. Два этажа – уже много. Можно обойтись одним.
И вместе с тем, Замоскворечье не похоже на провинциальный русский город. Это – именно Москва, с присущими этому городу достоинствами и недостатками – интеллектуальность, достоинство, многообразие уживаются с самовлюбленностью и снобизмом. И, конечно же, здесь есть неповторимый запах Москвы – тот самый, который в первую минуту ощущает путешественник-москвич, вернувшийся в свой город.
Правда, в Замоскворечье этот запах гуще, чище. Здесь пахнет старыми московскими домами, здесь сохранился уникальный старомосковский дух.
Поэт Сергей Дрофенко посвятил этому месту, а точнее говоря, этому миру одно из своих замечательных стихотворений:
Старые улицы Замоскворечья.Особняки.Арки, ворота, жилье человечье,Близость реки.Есть еще камни, калитки, заборы.Держитесь вы,Скверы, скворечни, подвалы, соборы,Иней Москвы.И хотя многое исчезло безвозвратно, до сих пор именно здесь, в Замоскворечье, можно ухватить за кончик хвостика этот московский иней.
Прогулки по Замоскворечью продолжительны, бесцельны и занятны. Цели тут и вправду быть не может – все необходимое для жизнедеятельности города сосредоточено на левом берегу реки Москвы – там, где Тверская, Кремль, Новый Арбат и площадь Трех вокзалов.
Зато кафе и ресторанов здесь много, и на разный кошелек. Замоскворечье – место для прогулок, а уставший путник в конце концов обязательно захочет выпить чашку кофе или съесть большой шашлык с сухим вином.
А посему начинаем первую прогулку по замоскворецкой улице. По Большой Полянке.
Дом отживших кошмаров
Дом на набережной (улица Серафимовича, 2) построен в 1931 году по проекту архитектора Б. Иофана.
По традиции, начнем прогулку несколько раньше – от Кремля, точнее, от Большого Каменного моста. Герой «Студентов» – повести Юрия Трифонова – восхищался этим мостом, вернувшись с фронта в 1945 году: «Большой Каменный!
Самый красивый мост в мире. Теперь он не сомневается в этом, – он видел мосты в Праге и в Вене и множество других мостов в разных странах. Отсюда город кажется беспорядочно тесным – улиц не видно, дома воздвигаются один над другим в хаосе желто-белых стен, карминных крыш, башен, облепленных лесами новостроек, искрящихся на солнце окон. Но по отдельным знакомым зданиям можно угадать улицы: вон блестит стеклянная крыша Пушкинского музея, левее, у самого берега, раскинулась строительная площадка – еще до войны здесь начали строить Дворец Советов, – как огромные зубья, торчат в круге массивные опоры фундамента. А по правую руку – высоко на холме Кремль. Старинные башни, подернутые сизой, почти белой у подножия патиной, и гряда зелени за стеной, на кремлевском дворе, а над зеленью – стройный, белогрудый дворец с красным флагом на шпиле».
Этот мост и по сей день – одна из так называемых «визитных карточек» Москвы. А еще более известен вид на Кремль, который открывается с него. Во времена Советского Союза именно он служил заставкой к телепередаче «Время» – главной и, по большому счету, единственной информационной программе тех лет.
А телевизионные работники называли этот вид «трехрублевым» – именно он украшал денежную купюру в три рубля.
* * *
Первая наша достопримечательность мрачна, загадочна и романтична. Дом Правительства, построенный Борисом Иофаном на месте древнего Винно-Соляного двора – с Корчемной конторой, аустерией и прочими подразделениями соответствующего характера. Или же «Дом на набережной», как его прозвали с легкой руки писателя Юрия Трифонова – одного из здешних обитателей.
Пока Трифонов не стал писателем и не издал свой роман, (который так и называется – «Дом на набережной»), дом часто называли «Допром». Игра слов невеселая – ведь «Допр» это «дом предварительного заключения». Отчасти, так и было – дом впереди не только по числу мемориальных досок, но и жильцов, увезенных отсюда на Лубянку.
Когда журналисту Михаилу Кольцову дали здесь квартиру, друзья поздравляли его. Но получалось неискренне. И лишь Корней Чуковский высказал, что думал:
– Ах, какая напасть! Вселяться в этот жуткий замок решительно нельзя. Но ведь и ослушаться и не вселиться – тоже невозможно. Вот беда-то!
Кольцов, ясное дело, вселился. И однажды зашел по-соседски к Подвойскому. Вскоре пришел и писатель Антонов-Овсеенко. Оглядел всю компанию. И мрачно сказал:
– А ведь по нынешним временам, собравшись втроем, мы попадаем под подозрение.
Увы, он в очень большой степени был прав.
* * *
Дом делали на совесть: 24 подъезда, 505 квартир, почта, телеграф, сберкасса, прачечная, трехэтажный корпус с продовольственным и промтоварным магазином и парикмахерской, столовая, детский сад, поликлиника, клуб, спортзал, кинозал.
Мимо проплывали прогулочные теплоходики, и экскурсоводы рассказывали гостям столицы:
– Вот, товарищи, архитектор Иофан построил дом – символ новой жизни. В таких бытовых условиях будут жить вскоре все советские люди.
«Серая громада висла над переулочком, по утрам застила солнце, а вечерами сверху летели голоса радио, музыка патефона. Там, в поднебесных этажах, шла, казалось, совсем иная жизнь, чем внизу, в мелкоте, крашенной по столетней традиции желтой краской», – писал Юрий Трифонов. Действительно, задача ставилась не пообещать «всем людям», пусть даже советским, заманчивое будущее, а, напротив, подчеркнуть недосягаемость той жизни, что происходила в этом сером здании.
Так и получилось, на протяжении всего советского периода это был дом для избранных. Здесь проживал маршал Тухачевский. Академики – Варга, Тарле. Авиаконструктор Микоян. Композитор Александров. И множество советских деятелей – кто со счастливой судьбой, а кто и с трагической.
Правда, иной раз случались критики, не понимавшие, куда на самом деле ветер дует. Они могли и мимоходом нелицеприятно отозваться о постройке. К примеру, журнал под названием «Бригада художников» дерзнул поместить его фото с таким комментарием: «Дом Правительства на Берсеневской набережной. Фонарь в стиле „ампир“ хорошо гармонирует с домом, показывая неприемлемость данного объекта для искусства СССР».
И автор сразу получил гневную отповедь. Да не от кого-нибудь, а от Ильфа и Петрова. Ирония названных фельетонистов была беспощадной: «Точка. Объект неприемлем. Обвинение тяжелое. Мы готовы даже допустить, что справедливое, предварительно узнав, в чем дело. Но положение безнадежное. «Не задавай кассиру вопросов».
После такой лаконичной и беспардонной критики обхаянному архитектору остается одно – снять лиловые подтяжки и повеситься на том самом фонаре в стиле «ампир», который «так хорошо гармонирует с домом». Хорошо, что фонарь снесли уже вместе с храмом, и жизнь архитектора покуда в безопасности…
Обратимся прямо к редакции.
– Товарищи редколлегия, дорогие товарищи (по алфавиту) Вильямс, Вязьменский, Дейнека, Кондраков, Малкин, Моор, Мордвинов, Новицкий, Перельман, Соколов-Скаля и Точилкин! Не считаете ли вы, что критик уже сделал свое дело и ему давно пора уйти из журнала? Не бойтесь! Вперед! Ведь вас много (если считать по алфавиту), а он один. Его очень легко взять врасплох. Подстерегите его, когда он будет сочинять очередные трамвайно-архитектурные выпады, схватите его (вас так много!) и унесите из редакции».
Ильф и Петров в порыве праведного гнева даже не заметили, что слово «гармонирует» здесь используется, мягко скажем, некорректно. И сами принялись его использовать в том же кривом значении. Еще бы – под угрозой новый дом, архитектурный флагман. Здесь не до филологических изысков.
* * *
Даже кинотеатр «Дома на набережной» – известный всем «Ударник» был лучшим из московских кинотеатров. В журнале «Строительство Москвы» за 1931 год вышла статья с абсурдным заголовком: «„Ударник“ – самое мощное кино в СССР». Словно намек на то, что северный фасад этого дома напоминает гусеничный трактор.
Многое в этой статье было посвящено недостаткам. Но зато каким!
«Гардероб слишком мал, не рассчитан на полную вместимость зала и имеет малый фронт приема и выдачи одежды». Или вот еще претензия: «Удивление вызывает лестница на второй балкон… Она представляет весьма сложный узел, очень опасный при пожаре». Много ли кинотеатров имеют балконы? Здесь же их – первый, второй… Да еще сложный узел какой-то.
* * *
Есть в этом доме и театр. По иронии судьбы, самый несерьезный в городе – Театр эстрады. Правда, въехал он сюда гораздо позже – в 1961 году. Ранее вместо него размещался клуб имени Рыкова, затем клуб имени Калинина, потом Детский театр, после него кинотеатр и, наконец, Театр эстрады.
Что там говорить – сам жанр эстрады далеко не театральный. Это и не поэма, и не пьеса. Даже не легкий водевиль. Это для праздничных концертов с алкогольной составляющей. А тут – целый театр. Театрище. И в самом центре столицы.
Он, кстати, являлся главной эстрадной площадкой страны. Купить в кассе билеты? Полноте! Их надобно было «доставать» – через знакомых, с переплатой.
Здесь же устраивались просмотры и прослушивания новичков. Николай Павлович Смирнов-Сокольский грозно восседал в жюри, на месте председателя. Был строг. Его побаивались.
Однажды некий молодой актер выступил, в общем-то, с вполне приличным номером. Но, глядя на Сокольского, засмущался и что-то вышло смазанно, неловко.
Номер закончился. Все напряженно смотрели на председателя. И тут джазмен Утесов, тоже член жюри, проговорил:
– Коля, не надо ругать. Ты уже давно заслужил право хвалить.
У Леонида Утесова был легкий характер.
* * *
Была здесь и своя парикмахерская. И тоже не простая, элитарная. Поэт Лариса Миллер вспоминала: «Возле кинотеатра „Ударник“ находилась наша „придворная парикмахерская“, куда мама часто брала меня с собой за компанию и для забавы. Я и правда забавляла весь зал, читая стихи и распевая песни. Особенным успехом пользовались песни Вертинского, которые всегда бисировала. А публика там была требовательная. Парикмахеры походили на лордов: сдержанные, корректные, целовали дамам ручки. Один из них – седовласый и статный – был, конечно, первым лордом и лучшим мастером. Все они, независимо от габаритов и возраста, как бабочки вокруг цветка порхали в безукоризненно белых халатах вокруг своих дам, орудуя щипцами с легкостью необычайной: нагревая, осуждая, вертя их в воздухе, прикладывая на мгновенье к губам, чтоб, доведя до нужной кондиции, соорудить нечто феерическое на дамской голове. Огромные зеркала, широкие окна, где на подоконниках почему-то стояли потрескавшиеся от времени мраморные бюсты не то древнеримских богинь, не то матрон. Не парикмахерская, а дворцовая зала».
Разумеется, советская элита не могла себе позволить меньший шик.
* * *
Напротив же дома, естественно, разбили сквер и пустили фонтан. Юрий Олеша наблюдал, как тот фонтан снимали кинокамерой: «Видел в сквере перед Домом правительства, как кинохроника снимала фонтан. Они всегда снимают так, что создается впечатление, что люди возятся, тянут, канителятся. Все это требует от них затраты времени, явно лишней, – затраты движений, разговоров, оценок. Я никогда не видел, чтобы уже сняли. Всегда только «сейчас снимут». Встают, садятся, сажают вместо себя другого, ищут каких-то подпорок, смотрят в небо. Я убежден, что это от бездарности, от самовлюбленности. Вот так канительно тянется и дело всей кинематографии, которая у нас почти исчезла.
Что касается фонтана, то он был великолепен. Во-первых, белый, дымный, во-вторых, широкоплечий, в-третьих, вызывающий жуткую мысль о том, чтобы его открыть в комнате, в-четвертых, навевающий прохладу, в-пятых, падающий всеми своими лапами в бассейн, который, как это ни странно, – зелен и в котором плавают листья… Идиоты с киноаппаратом казались в сравнении с фонтаном отталкивающими».
Да и самим жителям Дома на набережной суета вокруг фонтана тоже, видимо, казалась несколько избыточной.
Фантомы Малюты Скуратова
Усадьба Аверкия Кириллова (Берсеневская набережная, 20) построена в 1657 году.
Этот дом известен краеведам как палаты Аверкия Кириллова. Однако, по упорному московскому преданию, палаты некогда принадлежали думному дворянину Григорию Лукьяновичу Скуратову-Бельскому, вошедшему в историю под именем Малюты Скуратова. Якобы отсюда идет ход подземный прямехонько в Кремль. А под землей, в потаенных подвалах замурована так называемая библиотека царя Ивана Грозного.
После гибели Малюты, опять-таки по преданию, недвижимость досталась самому Борису Годунову. А уж потом, сменив еще немалое количество владельцев, перешла к думному дьяку Аверкию Кириллову – по совместительству не то купцу, не то садовнику при государевых садах. Известно про него было одно – что погорел он, в конце концов, на взятках. Да так погорел, что и врагу не пожелаешь. «А думного дьяка Оверкия Кирилова убили за то, что он, будучи у вашего государского дела, со всяких чинов людей великие взятки имал и налогу всякую неправду чинил».
Даже вполне серьезные издания упоминали о легенде. «По Берсеневской набережной, за рекой, уцелел любопытный дом XVII века, ныне принадлежащий Московскому Археологическому Обществу, – говорится в путеводителе по Москве 1917 года. – Московская легенда, совершенно недостоверная, называет его домом Малюты Скуратова, который будто бы даже провел от своего жилища потайной ход на Москву-реку. На самом деле эта случайно сохранившаяся от XVII в. постройка – дом дьяка Аверкия Кириллова, построенный в 1657 году.
В доме многое переделано, конечно, но часть, особенно некоторые детали обработки, а также своды очень хорошо сохранились от XVII в. Небольшая церковь Николы, что на Берсеневке, стоящая рядом с этим домом и приблизительно современная ему, очень легка и изящна».
* * *
В девятнадцатом столетии в доме разместилось Императорское московское археологическое общество. Одним из активнейших его участников был археолог Игнатий Стеллецкий. Впрочем, действительным членом Императорского московского археологического общества он стал, что называется, не от хорошей жизни – ведь для того чтобы спокойно исследовать подземную Москву, ему необходима была поддержка какой-нибудь влиятельной организации. Тем не менее Стеллецкий уделял этому обществу немало времени и сил. В частности, в комиссии «Вся Москва» он сделал около тридцати докладов. При этом они выделялись из общего ряда своей особой увлекательностью и романтичностью. Одни только названия чего стоили: «О подземном Кремле», «Новое о библиотеке Ивана Грозного», «Подземная новелла №3. Тайники дома Шепелева (Яузская больница)», «Подземная новелла №4. Тайники дома Дмитриева-Мамонова (Глазная больница)»…
Сами же выступления звучали как детективные рассказы. Например, в докладе «Подземный ход под Новодевичьим монастырем в Москве» Игнатий Яковлевич рассказывал о методах своей работы: «Предварительно были собраны циркулирующие среди местного населения слухи о подземных ходах. Упорно говорят о потайном ходе из Новодевичьего монастыря к Москве-реке. Для проверки слухов мною был нанесен визит игуменье монастыря, Леониде. Стоя во главе монастыря недавно, всего три года, последняя отговорилась незнанием, сообщив, впрочем, что, насколько ей известно, под собором имеются склепы, а из собора ведет какой-то ход, – куда, она не знает. Любезно разрешив осмотреть „склепы“, игуменья отрядила двух монахинь с ключами».
Это здание – самое, пожалуй, интересное из тех, с которыми была связана московская жизнь Игнатия Яковлевича. Он, несмотря на скепсис популярного путеводителя, обнаружил в палатах белокаменную лестницу, ведущую куда-то под Москву-реку. Разумеется, Стеллецкий сразу начал разворачивать археолого-спелеологическую деятельность, но строгая и осторожная руководительница общества, графиня Прасковья Сергеевна Уварова отрезала: «Пока я жива, Вы в доме Археологического Общества копать не будете».
* * *
Люди здесь работали пресимпатичнейшие. Вера Харузина, этнограф, вспоминала о своей детской подруге Соне Чертороговой: «Софья Васильевна встала в некоторые отношения к науке: а именно, она получила место в Московском археологическом обществе с квартирой в доме Общества на Берсеневской набережной, была библиотекаршей Общества, исполняла секретарские обязанности при графине П. С. Уваровой, благодаря чему присутствовала на заседаниях, входила в личные сношения с археологами. Беседа с ней всегда была мне интересна, не говоря о той сердечности, которая скрепляла наши с ней отношения. И мне всегда бывало приятно бывать у нее, в такой оригинальной обстановке, в комнате со старинными окнами, глядящими в сад, где Соня разводила цветы и сажала яблони. И помню я, как много-много лет после нашей гимназической жизни мы, уже не молодые, присутствовали на костюмированном вечере, устроенном в залах Археологического общества Софьей Васильевной для детей сестры и их товарищей и подруг. И как было весело смотреть на эту молодежь, танцующую в зале заседаний со сводами и расписным потолком, и как изящно был сервирован стол, весь убранный фиалками, и как прелестна была миловидностью и приветливостью к гостям старшая дочь Екатерины Васильевны Таня Кувшинникова в костюме Снегурки».
Кто бы сегодня стал бравировать знакомством с человеком, «входящим в личные сношения с археологами»?
* * *
После революции здесь разместились новые организации. Об одной из них – Институте этнических и национальных культур народов Востока – писал Осип Мандельштам: «Институт народов Востока помещается на Берсеневской набережной, рядом с пирамидальным Домом Правительства. Чуть подальше промышлял перевозчик, взимая три копейки за переправу и окуная по самые уключины в воду перегруженную свою ладью.
Воздух на набережной Москвы-реки тягучий и мучнистый».
И далее – развитие событий: «Ко мне вышел скучающий молодой армянин. Среди яфетических книг с колючими шрифтами существовала так же, как русская бабочка-капустница в библиотеке кактусов, белокурая девица.
Мой любительский приход никого не порадовал. Просьба о помощи в изучении древнеармянского языка не тронула сердца этих людей, из которых женщина к тому же и не владела ключом познания».
Но не все было так просто: «Разговор с молодым аспирантом из Тифлиса не клеился и принял под конец дипломатически сдержанный характер.
Были названы имена высокочтимых армянских писателей, был упомянут академик Марр, только что промчавшийся через Москву из Удмуртской или Вогульской области в Ленинград, и был похвален дух яфетического любомудрия, проникающий в структурные глубины всякой речи».
К счастью, на арене появился новый персонаж: «Его Прометеева голова излучала дымчатый пепельно-синий свет, как сильнейшая кварцевая лампа… Черно-голубые, взбитые, с выхвалью, пряди его жестких волос имели в себе нечто от корешковой силы заколдованного птичьего пера.
Широкий рот чернокнижника не улыбался, твердо помня, что слово – это работа. Голова товарища Ованесьяна обладала способностью удаляться от собеседника, как горная вершина, случайно напоминающая форму головы. Но синяя кварцевая хмурь его очей стоила улыбки»
* * *
А за палатами – церковь Николы на Берсеневке, оставшаяся от монастыря – Никольского, у Берсеневской решетки за Москвою-рекою – основанного еще в четырнадцатом веке.
И у нее тоже была дурная слава – опять же в силу предания о Малюте Скуратове. Одна из героинь шмелевского «Лета Господня» комментировала ее символ во время московского крестного хода:
– А рядышком, черная-то хоругвь… темное серебро в каменьях… страшная хоругвь эта, каменья с убиенных посняты, дар Малюты Скуратова, церкви Николы на Берсеновке, триста годов ей, много показнил народу безвинного… несет ее… ох, гляди не под силу… смокнул весь… ах, ревнутель, литейный мастер Овчинников, боец на «стенках»… силищи непомерной… изнемогаети-то… а ласковый-то какой… хорошо его знаю… сердешного голубя… вместе с ним плачем на акафистах…
Так все и перемешивалось в головах простых московских обывательниц – и плачи на акафистах, и бои стенка на стенку, и «ревнутель», и, конечно, «ужасы» Берсеневки.
До наших дней церковь дошла несколько изувеченной – в 1930 году власти закрыли этот храм, а заодно и приняли решение: «Принимая во внимание ходатайство ЦГРМ (Центральных государственных реставрационных мастерских – АМ) о разборке колокольни, ввиду того, что данная колокольня затемняет помещение ЦГРМ, чем затрудняется работа мастерских, – названную колокольню снести».
Абсурд, конечно, – реставраторы просят не оставить, а наоборот, снести архитектурный памятник. Впрочем, абсурд вообще был свойствен тридцатым годам прошлого столетия.
Сам храм тоже, было, решили снести, но, поразмыслив, оставили.
* * *
А неподалеку проживал своеобразный мужичок. О нем рассказывал букинист Афанасий Афанасьевич Астапов: «Жил-был старик со своею старухою, но не у синего моря, а на самом берегу Москвы-реки, близ дома Малюты Скуратова (где ныне Археологическое общество, не доходя до яхт-клуба, на Берсеневке). Жили они не в землянке, а в сторожке, платя 2 рубля 50 копеек в месяц. И не рыбу ловили, а дровишки и щепу, обеспечивая себя во время половодья от покупки дров почти до следующей весны, до нового половодья. Старик был высокого роста, физиономия выразительная, имел длинную бороду, журавлиную походку; в разговоре был, что называется, обстановистым, умея ловко пользоваться, где нужно, своеобразной начитанностью. Звали его Иваном Андреевичем Чихириным; умер он… приблизительно 75 лет от роду. Одевался в летнее время в долгополый сюртук, а зимою – в тулуп; картуз носил триповый, старого покроя. Костюм этот, думается мне, служил ему лет тридцать. Профессией его была торговля старыми книгами, преимущественно на Смоленском рынке. Его жена, старушка небольшого роста… одевалась просто, без претензий на моду.
Чихирин нередко рассказывал разные случаи и приключения из своей жизни. Вращаясь около бояр, которым продавал, менял, а то у них же и покупал книги, он говорил, что бояре любили книжников, как людей, полезных для науки. Летом он путешествовал, не за границу, разумеется, а по московским окрестностям, начиная с Ходынки, где его покупателями являлись по большей части офицеры, заходил во Всехсвятское, Петровский парк, Петровско-Разумовское, а то и в Останкино, Сокольники и т. д. Накладет, бывало, в мешок пуда три товара литературного содержания, вроде сочинений Загоскина, Булгарина или переводов Вальтера Скотта и других. Наберет больше таких книг, цена которым начиналась от 3 рублей, а продавались они копеек по 75, даже по 50. В то время не знали так называемую скидку процентов. С великим терпением таскал он эту литературу на своих плечах, хотя бывали дни и без почина. Но если попадет на местечко, где есть книги, то уж здесь он поработает. Встречались ему и старые библиотеки, где он наменяет, продаст и накупит товара почти на весь год. Попадались ему и книги наследственные; тут он тоже не зевал… Иван Андреевич хорошо знал свой товар, любил читать и даже знал наизусть почти всего Рылеева. Память у него была прекрасная, и когда разговорится – слушать хочется».
Вот какая экзотическая личность проживала на Берсеневке.
Ароматизатор
Главное здание кондитерской фабрики Эйнема (Берсеневская набережная, 6) построено в 1889 году.
Сравнительно недавно здесь была кондитерская фабрика «Красный Октябрь», считавшаяся лучшей на всей территории СССР. Правда, некоторые ценители утверждали, что гораздо лучше были куйбышевские конфеты и лакомства прибалтийских советских республик (эстонский «Калев», первым делом).
О качестве же здешних сладостей сообщал в первую очередь прекрасный аромат, которым пропитывался воздух вокруг фабрики. Он был волшебен и неповторим. А при ветре юго-западном достигал и самого Кремля.
Увы, сегодня о том чудном запахе остались лишь одни воспоминания.
Первое кондитерское производство разместилось здесь в 1845 году и называлось фабрикой «Смирнов и сыновья». Но династия Смирновых ненадолго удержала это производство при себе. И спустя два десятилетия здесь красовалась «Фабрика шоколада, конфет и чайных печений Товарищества Эйнем» со штатом в тысячу рабочих.