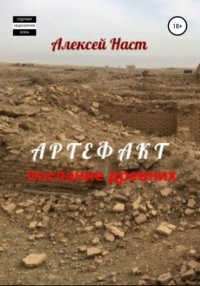Полная версия
Хан Батый. Русь в огне
Серьга приметил, что несколько дружинников не спускают с него глаз. Да, видно его ждал серьёзный разговор с Ярославом…
С площади, где смердов начали делить на отряды, князь Ярослав, с десятком дружинников, воеводой Дубиной – начальником охраны кремника, и Серьгой, вернулись в детинец. Ярослав велел идти в терем.
Шагая по узкому, тёмному коридору, сказал:
–Сысой завтра приедет. Его нет в городе. Зачем тебя послал Семён?
–Просит Сысоя о встрече.
–Да? Интересно. Смотри, Серьга, если это черниговские козни, из шкуры твоей ремней нарежу! Где будут встречаться?
–Под Москвой.
–Видишь – война у нас. Сысой мне неотлучно нужен, не до разговоров ему. Пусть сюда Семён сам приезжает, тут и поговорят.
–Боится. Они с Петром Ослядюковичем враги.
–А с Юрием? – язвительно глянул Ярослав.
–Великий князь обманут Петром Ослядюковичем. Он не знает всей правды. Семён никуда не убегал. Мы поехали с разрешения…
–Пусть приедет, падёт в ноги, вымолит прощение у Юрия.
–Я не знаю.
–А я знаю! Гонору много у Сёмки! И у тебя, Серьга, тоже! И у дурака Микулы! Дураки вы, что к Мишке сбежали! Я бы вас, переметнись вы ко мне, в люди вывел. Во! Как Сысоя! Был кем у Юрия? Сидел в пограничном городишке, в Нижнем Новгороде, три десятка воинов – всё его воинство! А у меня кем стал? Мой ближний воевода! Так-то!
Серьга смущённо сопел, не понимая, чего добивался Ярослав своим разговором.
В светлице, за длинным столом, уставленном яствами, обедали первые люди города. Ярослав сел во главе стола. Серьга приткнулся на дальнем конце. Он смиренно ел, пил, покрываясь дремотной усталостью от наступившей сытости. Казалось, что Ярослав забыл о нём. Но, уходя из трапезной, князь указал дружинникам на Серьгу:
–Под замок его! Да соломы не жалейте, пусть отоспится!
«»»»»»»»
Князь Юрий отмолился в церкви, вышел на двор детинца. Дружинники суетились у лошадей, смерды работали на скотном дворе, холопки вывешивали сушиться бухарские ковры и медвежьи шкуры.
Юрию не понравилась размеренная суета. Всё у него тихо, всё по порядку. А вот Ярослав – воин, неутомим. Ведь, чуть не втянул в большую войну с немцами, гадёныш. А у Юрия не только западная граница на уме, у него и восток, и юг.
Из Чернигова доносили, что Михаил затаился, тихо правит своими землями. Не к добру эта тишина. Мишка, как и Ярослав, не мирный человек. Мечтает быть князем всей Южной Руси. Ну, ну. Руки коротки. Не быть Руси единой – никогда. Вот такие объединители и рождают усобицы. Каждый не смотрел бы алчно на земли соседей, было бы куда лучше. Шаткое равновесие, за которое ратовал Юрий, единственное благо для всех. Давно большой войны не было между русскими князьями – это хорошо. Но Юрия беспокоили половцы – рубятся где-то у Волги с неведомыми татарами, и эта бойня не прекращается много лет. Особенно недавнее нашествие половцев на мордву показало слабость восточной границы его земель. А если половцев разобьют татары, и они вновь придут в мордовские леса? Тогда стычек, и даже войны, не избежать. Готово к этому Владимирское княжество? Надо укреплять Муромскую землю.
Пётр Ослядюкович ехал на свадьбу дочери – нашёл ведь Наташке воеводского сынка в Рязани. Хвастал перед Юрием, что приготовил молодым усадьбу во Владимире, а усадьба-то Спиридона, отца «сбежавшего» Сёмки, посольского воеводы… Долго томился старик в подвалах. Тогда-то и велел Юрий выпустить Спиридона.
Уже давно до ушей князя доходили слухи, что Пётр Ослядюкович подстроил «измену» Семёна. Но дело было сделано, да и не хотелось ссориться с преданным первым воеводой из-за сопляка Сёмки. Теперь Спиридон сидит посадником в Нижнем Новгороде. Болеет. Что ж, хоть умрёт не как собака. А это много значит! Да, надо и Нижний укрепить, ведь, как поставили городок, с той поры ничего не делалось для усиления границы с булгарами. Им, конечно, не до распрей с Суздалью – тоже страдают от татар! Опять татары!
Юрий, выпустив Спиридона, смотрел тогда смущённо на слёзы валявшегося в ногах старика, просившего простить сыновей Сёмку и Мишку, и было совестно. А ещё более совестно, что всё это происходило на подворье злополучной Спиридоновой усадьбы. Пётр Ослядюкович хвастал – вот, мол, какой подарок молодым! Тут и велел Юрий привести Спиридона из подвала, а, как объявил ему о прощении и высылке посадником в Нижний, Спиридон, поедая Пётра Ослядюковича пустыми глазами, попросил дозволения забрать с собой своё добро – горшки с деньгами.
–Где же они у тебя? – улыбнулся Юрий, зная про зарытые клады, и про земляные работы Петра Ослядюковича в Спиридоновой усадьбе по их поиску.
–Дозволь? – просил Спиридон.
–Твоё. Забирай. Никто не отнимет.
Спиридон упал на колени перед резным крыльцом, подкопал, просунул руку. Пётр Ослядюкович позеленел. Юрий откровенно рассмеялся его алчности и неудаче!
Спиридон отрыл два горшка. Поддерживаемый дружинниками, он пошёл из города на пристань – плыть в Нижний. Юрий велел снабдить Спиридона грамотой о назначении нижегородским посадником. Но, хоть явил он милость, досада в душе осталась.
Пётр Ослядюкович остаток дня ходил подавленным, про свадьбу уже не хвастал.
Да, тогда Юрий поступил справедливо. Это очистило душу, но спокойствие, прущее отовсюду, из любого угла его владений, всё больше настораживало. Потому, Петра Ослядюковича, ехавшего на свадьбу дочери в Рязань (свадьбу будут гулять дважды: в Рязани и Владимире) заставил завернуть сначала в Муром, взнуздать князей, чтобы подновили засеки на заставах, стены городков подправили, а уже оттуда – рекой до места.
Вот и сейчас у Юрия было ощущение, что он что-то упустил, позабыл в спокойном течении будней. Но что?
С тяжёлым настроением Юрий крикнул сотника Ваньку, велел готовить лошадей – решил съездить на тихую проточку, пострелять, если повезёт, лебедей. Хотя, не следовало бы – всё-таки с птенцами сейчас, но он решил ехать. Только не сидеть в городе, изнывая от скуки и предчувствия непонятной обречённости всех своих дел…
«»»»»»»»
До Рязани Семён и Микула добирались долго, успев не раз поссориться и помириться.
В город Семён не пошёл, остался в лесу – город стоял, как на ладони. Микула, ворча, оставив лошадь, поплёлся в Рязань пешком.
–Шибко скоро не жди. Хорошо, если до ночи найду, – буркнул он напоследок, и запылил по дороге к открытым воротам.
Семён развёл костерок. Было и так жарко, поэтому он бросал тоненькие веточки, скармливая их жадному пламени, потом устал и, затоптав угли, решил вздремнуть в тени. Стреноженные кони паслись тут же. Не спалось… Так зачем он приехал? Ну, увидит Наталью, и что? Что дальше? Прижмёт к груди и отпустит – иди под венец? Сердце уже зарубцевалось от долгой разлуки. Ведь больнее будет, если сейчас встретится с ней, если заговорит… А, всё уже, назад дороги нет, будь, что будет. Ему хочется муки, ему надо её увидеть, а дальше – всё в божьей воле!
Микула, как обещал, пришёл вечером. Принёс в торбе лук, репку, кругляк хлеба. Усевшись рядом с лежавшем на тёплой земле Семёном, неторопливо стал чистить репку, резал её тонкими пластиками, молча жевал. Когда всю съел, принялся за хлеб с луком.
–Рассказывай. Нашёл её? – не выдержал Семён.
–Нашёл.
Ответ поразил Семёна. Сердце зашлось тревожным боем – он был не готов к этому.
Сразу поднявшись, он пристально взглянул на отрешённую, жующую физиономию Микулы.
–И что?
–Придёт. Завтра придёт. Я её у ворот встречу.
Семён горько вздохнул, закрестился. Спаси, господи! Она придёт. Любит его!
Не сразу успокоившись, он снова развёл костёр. Микула спустился к реке, зачерпнул в котелок воды, подвесил над огнём, бросил пахучих сушёных листьев малины, какие таскал в мешочке. Из Рума Семён вывез много сухого чая, но его выпили, пока жили на заимках, а пить кипяток уже отвыкли. Микула и Семён кофе пить не любили, хотя дорогого порошка в княжеских трапезных было в избытке, но то на любителя, а квас круглый год и сбитень пить не будешь. Вот и заваривали листья вишни, малины, смородины.
Семён напряжённо вспоминал Наталью, и сердце падало в глупой истоме – любимая. Связался ведь с девчонкой, дурак. А дома жена… И тут же отогнал эту мысль – то другое, там семья, а здесь сердечный жар, омут, страсть, да и то в прошлом – Наталья выйдет замуж, по другому быть не могло. Душу затопила невыносимая боль.
Семён зло пнул огонь костра – горящие головни разлетелись. Микула заорал, обматерил.
Семён ушёл в лес, в темноту. Сидел под берёзой, ковырял палкой землю, шлепал комаров на шее. Что будет? Что? Зря он всё это затеял! Уехать? Нет. Он должен её увидеть. В последний раз…
Утром было холодно, жутко хотелось спать, но Микула растолкал, выпросил денег, и ушёл в город. Семён дальше спать не мог, спустился к реке, умылся. Не елось, не сиделось. Пока ждал, измучился.
Был полдень. И он понял, что она придёт в полдень – все же дрыхнут, после обеда. Сейчас хоть город вырежи – храпят, ироды!
И правда, из череды подвод, выезжавших из города, одна отделилась, свернула к реке, встала. Семён разглядел Микулу, ругающегося с возницей – вот, жлоб, обсчитал, верно, смерда. Точно! Микула пошёл, и с телеги слезла девушка. Семён чуть не побежал навстречу, еле сдержал себя – она!
Он смотрел, как она идёт, смотрел во все глаза.
Она разглядела его среди деревьев, бросилась бегом. И Семён побежал.
Поймал её, как пушинку, схватил, завертел. Наташа! Наташенька!
А Наталья рыдала, целуя.
Микула с ухмылкой смотрел на них.
Семён горячо заговорил о своей беззаветной любви к воеводской дочке, о тоске, о сердечной боли, о невозможности жить без неё. Не спуская её с рук, так и понёс её в лес.
Микула сплюнул – горбатого только могила исправит.
Злясь, он уселся на берегу, бросал в воду куски земли, скомканную траву. Любят люди друг друга. Страшно подумать, сколько вёрст отмахали, ради вот этих нежностей. Жалко их, пёсьих детей. Хоть и грех, а ведь любовь! Против неё не попрёшь! А ему, Микуле, нет счастья – один баламут, ни кола, ни двора. Мечтал ведь – женится. Вон, Парашка из кремника, девка какая, а! Умная, добрая. Слово скажет – душа задрожит. Поди уж, кто-то забрал. Так и проживёт один-одинёшенек.
Вечерело.
–Микула!
Расстроенный Микула вернулся к опушке. Наташка ныла без слёз, не отпускала Семёновой руки. Тот был бледнее смерти.
Мученики они, на горе себе слюбились.
–Микула, проводи Наталью до дома.
–Пойдём, – буркнул Микула.
–Любимый, – шепнула девушка, и впилась губами в последнем поцелуе.
Семён долго не отрывался от неё, наконец, отпустил, отвернулся.
Микула и Наталья побрели к городу потерянные.
Семён заорал издалека:
–Наташа-а! Я люб-лю те-бя-я-я!
Наталья разрыдалась.
Так и въехали в город – плачущая девушка и хмурый Микула. В этот раз Микула расплатился с возницей не торгуясь.
Вернувшись из города, он торопливо сварил похлёбку, поел – Семён есть отказался.
Под ночь выехали обратно. Долго молчали.
Микула хрипло сказал:
–Счастливый ты, воевода.
–В петлю мне от такого счастья…
«»»»»»»»
Бату прогуливался по ханскому орду в сопровождении Шибана и нукеров. Подлетел на лошади хмурый Берке. По его скрытному лицу нельзя было определить – что-то стряслось или он не доволен каким-то пустяком. Берке осадил коня, торопливо слез с седла, кивнул Бату.
–Я от Мунке. Разговор есть.
–Говори, – Бату напрягся.
Берке бросил взгляд на хитрые лица нукеров, буркнул сердито:
–Не здесь. И Орду надо позвать.
Бату отправил за старшим братом порученца-туаджи, а они вошли в первую же юрту. Это была юрта сотника Мантая. Просторная, но простая и тёмная.
Мантай выгнал жён и детей, кланяясь, торопливо подбросил в очаг сухих лепёшек аргала. Огонь приветливо затрещал, дым с уютным запахом горелого навоза, устремился вверх, к отверстию в потолке.
Бату огляделся, небрежно махнул рукой. Сотник исчез. Аргал разгорался. Яркие блики запрыгали по лицам братьев.
Берке присел к очагу, за ним сели Бату и Шибан.
–Я уломал Мунке, – прохрипел и засмеялся Берке.
–Он и так не был против похода на половцев и орусутов, – отозвался Бату, зная, что Берке сказал не всё.
–Хан и брат, Мунке убедил Тулуя в необходимости западного похода. Тулуй пошлёт монгольских воинов своего улуса!
–Вот это отличная новость! Ха-ха! Да! – Бату радостно сжал кулак, шутливо толкнул в плечо Шибана. – Учись у Берке! От тебя, до сих пор, нет толку с Каданом и Бори.
Шибан не посмел возразить.
Берке снисходительно улыбнулся.
–Теперь убедим Угедэя, и дело сделано.
–Это самое трудное – уговорить дядю Угедэя… – сбросил весёлость Бату, вспомнив неуступчивых сыновей Чагатая. Бори сам желает быть лашкаркаши, и вести в поход тумёны всех монгольских улусов. Сыновья Чагатая близки Угедэю, он всегда расположен к ним и милостив.
–Легко на словах, – согласился с Бату Шибан.
Берке, закатив глаза, пожал плечами, мол, я делаю всё, что могу, и верю в успех.
Откинув полог, в юрту вошёл суровый Орду. Оглядев братьев, их возбуждённые лица, он кивнул Бату, как хану, подождал, пока Берке и Шибан кивнут ему, прошёл к очагу, пыхтя, присёл, увидел у стены подушку, взял её, подоткнул себе под зад.
–Опять совет. Что-то случилось?
–Мунке и Тулуй согласны с западным походом, – пояснил Бату.
–А Угедэй?
–Есть мысль, – Берке впился взглядом в лицо Орды, не выдержал ответного, требовательного взгляда старшего брата, хмыкнул. – На дядю Угедэя можно «надавить» через Тараку. Он заглядывает в рот своей старшей жене по поводу и без него – все это знают.
–И что? – не понял Бату.
–Орду и ты, брат, пойдёте к Тараке, и склоните её к тому, что западный поход выгоднее Угедэю и их старшему сыну Гуюку, чем любые другие.
–Убедить Тараку! Подарков здесь будет мало, – произнёс Бату, немного разочарованный.
Берке помолчал, заулыбался, продолжил тихо:
–Дядя Угедэй отменный пьяница. Заветы Чингисхана о вреде пьянства великий хан позабыл, и уже опух от беспробудных возлияний. Тарака понимает, что наш дядя долго не протянет…
Братья не прерывали Берке, внимая словам, за которые «маленьких людей» могли послать на смерть. Берке доверял братьям, считал их верными клану джучидов, а самым коварным – себя. Им он мог сказать любое, самое запретное.
–И что? – не выдержал паузы Бату. Манера Берке выражаться не до конца, иногда его злила. Берке ставил его – улусного хана, в положение глупца, выспрашивающего истину. Брата спасала от гнева Бату невидимая грань, которую он никогда не переступал – он позволял себе подобные выходки только наедине или, когда братья были в тесном кругу, без свидетелей, как сейчас.
–Это значит, через какое-то время у Великого Монгольского ханства появится новый хан. Гуюк – наследник. Тараке было бы очень выгодно, чтобы в грандиозном походе, Гуюк проявил себя во всём блеске. А только западный поход может быть грандиозным и успешным – половцев мы разобьём, булгар, а орусуты слабы и разобщены. Когда Гуюк вернётся в Каракорум из такого успешного похода, никто не усомнится в его праве быть ханом.
–Не понимаю. Что ты предлагаешь?
–Гуюк будет в походе равным лашкаркаши, – сказал Берке.
Глаза Бату потемнели – ах, собака, неужели Берке переметнулся на сторону пса Гуюка?! Подкуплен? Но чем его можно соблазнить? Он правитель, почти равный Бату, в улусе Джучи. Что ни делает, Бату соглашается – пусть так. Неужто, мало ему роли верного помощника? Неужели, задумал чёрное дело – извести его, Бату?! Тогда, брату смерть за такое вероломство!
–Этот поход возглавлю я! – Бату не выдержал, вскочил на ноги, стукнул себя кулаком в грудь. Приступ ярости обуял его. – Дед велел нашему отцу покорить западные земли. Дед меня поставил ханом в улусе. Потому, только я имею право быть лашкаркаши! Я поведу монголов в западный поход! Я!
Братья никак не отреагировали, остались спокойны. Ты, так ты.
Берке ядовито усмехнулся:
–А кто ещё? Всё правильно. Ты будешь лашкаркаши. Никто не смеет претендовать на эту роль. А Гуюк – чуть-чуть ниже… На это чуть-чуть купятся и Тарака, и сам Гуюк… А в походе мы найдём способ заставить Гуюка повиноваться лашкаркаши.
Бату подумал, подумал, и расслабился. Хитёр, лисица. В словах Берке был резон. Тарака ухватит приманку, словно голодная рыба. А во время войны, пусть Гуюк попробует не подчиниться! Гуюк чингизид, «белая кость», Бату не сможет его наказать, в случае ослушания, но вправе будет отправить назад, к Угедэю. Пока суд да дело, поход будет продолжаться, да и сам великий хан Угедэй уже не посмеет относиться к Бату пренебрежительно, держащему в руках все силы ханства.
Бату посмотрел на Орду. Тот невозмутимо смотрел перед собой.
–Что скажешь, старший брат?
–Доверься ему, Бату. Берке лучше всех нас умеет извлекать выгоды из слабостей людей. Поговорим с Таракой, может, что и получится. Берке, ты пойдёшь с нами?
–Нет. Вы двое – старшие. Пусть другие думают, что я не принимаю участия в решении таких дел. Мы с Шибаном продолжим убеждать остальных.
Бату постоял, размышляя над услышанным, и нетерпеливо заходил по юрте.
Братья смотрели на него, ожидая, что он скажет.
Бату остановился.
–Согласен. А как быть с Чагатаем? Если он отстоит своё право на Кавказский поход, он ослабит общие силы. Уверен, все свои тумёны он отправит на Кавказ, и у Тулуя с Гуюком потребует подкрепления.
–Скажите Тараке и про поход на Кавказ, только эти земли надо отдать не Чагатаю, а выделить в отдельный улус, отдать под управление какого-нибудь нойона, а все доходы отправлять в казну великого хана. Угедэй и Тулуй будут рады не дать Чагатаю усилиться. А чем тогда крыть Чагатаю? Поход ведь утверждён, что ещё надо? Тогда он пошлёт свои основные силы с нами – на запад. Количество добычи ведь идёт каждому улусу от количества воинов, какие он выставляет в поход.
–Если бы всё вышло, как ты говоришь, – отозвался Бату. Берке, действительно, выстраивал убедительную цепочку.
–Будем действовать, как решили, и всё получится, – сказал Берке…
«»»»»»»
В Серенск приехал посланник от Сысоя.
Семён с Микулой сидели в избе, за дощатым столом, медленно жевали перловую кашу с бараниной из долблённой деревянной миски, запивали квасом.
–Кто таков?
–Митрофан. Дружинник воеводы Сысоя.
Микула отрыгнул.
–Как же проник к нам? Переяславцев здесь не жалуют.
–Смог.
–А как нам узнать, что ты от Сысоя? Почему Серьга не вернулся?
Семён хмуро оглядел сытого, ладного дружинника, дёрнул головой:
–Говори.
–Ваш Серьга в подвале заперт. Князь Ярослав его изловил. Но воевода Сысой его видел, говорил с ним. Сысой сейчас в Москве – переяславскому войску требуется много хлеба, князь Юрий выделил вспоможение. Сысой ждёт в условленном месте. Поторопись, воевода, Сысой скоро уезжает обратно – князь Ярослав долго ждать не будет – войско, на голодный желудок, немца не одолеет!
–Складно говорит, – усмехнулся Микула, испытывающее глядя на дружинника.
Семён буркнул:
–Письмо какое Сысой передал?
Посланник растерянно заморгал.
–Нет. Всё на словах.
–И что? – спросил у Семёна Микула.
Семён отложил ложку, тяжело вздохнул. Серьгу Ярослав сцапал. Стоило ехать на встречу под Москву, или нет? Недруги– аспиды могут именем Сысоя укрываться, что его заманить в ловушку.
–Может, я съезжу? – спросил Микула.
–Нет, мне самому повидать Сысоя надо. Он ведь моих оберегает. Надо самому. Что он тебе расскажет? Моя же семья!
–А вдруг засада?
–Не знаю. С другой стороны: зачем им меня облавливать? Отца-то Юрий отпустил, даже посадником в Нижний поставил… Съездим.
Микула покрутил в руке ложку, склонил голову на бок, долго смотрел на неё, потом быстро облизал.
–Да, гадать нечего.
Поглядев на гонца, спросил хищно ощерившись:
–В ловушку заманиваешь, гад?!
Митрофан боязливо закрестился. Микуле это понравилось. Он улыбнулся.
–Отчего не съездить? Сидеть без дела скучно.
Не откладывая в долгий ящик, тут же заседлали лошадей, прихватили сухарей и вяленой рыбы, и выехали в Московскую землю…
–Да не приедет Семён. Что он, глупец, голову в пекло совать? – возмущённо говорил Петру Ослядюковичу московский воевода Фёдор Нянка.
Пётр Ослядюкович, застигнутый гонцом князя Ярослава в Муроме, всё бросил (отправил обоз с подарками к свадьбе дочери с приказными), сам молнией, не щадя лошадей, помчался в Москву и расставил западню.
Нянке, с самого начала, затея ловить прощённого князем Сёмку, не понравилась, но Пётр Ослядюкович наорал: «Я тебя утвердил здеся, я и убрать могу!».
Пётр Ослядюкович заманивал Семёна ложной встречей с Сысоем. Все его мысли были об одном – удавить гадёныша. Но и свидетели были не нужны. Особенно не нравилась независимость Нянки. Пообвыкся на Москве, забыл, кому обязан положением! Потому, Пётр Ослядюкович думал пока бросить Семёна в сырой погреб, а там уже, если сам от плохой кормёжки и сырости не подохнет, извести «невзначай» чужими руками.
Конечно, можно было бы и простить, да жгло мщением недавнее торжество Спиридона – ведь вылез, дьявол, из подвалов, и из под самого носа серебро унёс. Ведь всю усадьбу взрыли, а под крыльцо не догадались заглянуть! Пётр Ослядюкович вспомнил, как блеснули торжеством глаза Спиридона. Ничего, попадётся Сёмка, торжествовать будет он!
Не ожидал Пётр Ослядюкович, что князь Ярослав, всегда предвзятый к нему, поднесёт такой подарок – бери Сёмку голыми руками! А всё потому, что мстит князю Михаилу. Раз Семён у Михаила, он теперь Ярославу враг. Это хорошо – чем больше врагов у Сёмки, тем меньше шансов выжить.
Пётр Ослядюкович тщательно обдумывал, как одурачить Сёмку, чтобы заманить в ловушку наверняка, но ничего, кроме мнимого приезда Сысоя в Москву, не придумал – Сысой-то уже давно был в новгородских пределах, с немцами ратился, а может и убит (прости, господи, за такие мысли!).
Нянка, послушно расставив засады вокруг лесной заимки, всё ныл и ныл: «Зря, зря. Не приедет». Всю душу вымотал.
Они сидели в избушке. Было сыро и пахло прелью. Пётр Ослядюкович, от нечего делать, перебирал на столе янтарные бусы, молчал. Нянка маялся, тяжело вздыхал, чесал затылок или бороду.
К избе подъехали верхоконные.
Пётр Ослядюкович напрягся. Внутри всё сжалось. Неужели они? Он непроизвольно потрогал меч, опять опустил руку на стол, забарабанил пальцами. Нянка кашлянул от волнения.
Дверь скрипнула.
Нагибаясь, вошли Семён, Микула и Митрофан.
Тут же следом ввалились прятавшиеся в округе дружинники, повалили всех троих на пол, заламывая руки.
Пётр Ослядюкович с Нянкой переглянулись – гладко получилось.
–Ну, здравствуй, воровская рожа! – прогремел торжественно Пётр Ослядюкович.
–Твоя взяла, воевода, – прохрипел Семён. – Поймал.
–Моя взяла, – согласился повеселевший Пётр Ослядюкович. – Отпустите их. Уже не сбегут.
Дружинники отошли к двери. Семён и Микула, медленно поднялись, отряхиваясь. Встал на ноги и невинно пострадавший Митрофан.
–Чудики, Митрофана-то за что заломили? – ухмыльнулся Пётр Ослядюкович. – Так что, Сёма, долго ты прятался, а вот я всё равно тебя повязал. И всегда будет по-моему!
Он встал из-за стола, подошёл к Семёну, пристально посмотрел в глаза – в зрачках Сёмки горела ненависть (бессильная ненависть!). Зачем-то решил заглянуть и в бесстыжие глаза дурака Микулы, но тот, вдруг, что есть силы, долбанул, и Пётр Ослядюкович, ослепнув от боли и огня, отлетел под стол.
Закричали, загремело всё, кто-то падал, падал, орали, скрипнула дверь и, дерущаяся куча, вывалилась на улицу. Пётр Ослядюкович, прозрев, сморкнувшись кровью, кинулся из избы, но кончено – уже кричали и дрались в густом ельнике. Больше всех шумел Нянка.
–Собак! Где собаки?! – заорал в бешенстве Пётр Ослядюкович.
Но никого не было – поляна опустела, а возбуждённые крики и треск сучьев удалялись вглубь леса.
Первым вернулся Фёдор Нянка, долго сплевывал кровь в прелую, рыжую хвою, устилавшую всё вокруг, потом мыл лицо в бочке у дверей избушки, хмыкал, посмеиваясь.
Возвращались по одному хмурые дружинники.
«Упустили! Так и есть!», – глядел в их лица Пётр Ослядюкович, но всё же не терял надежды.
Последним пришёл Митрофан, развёл руки в стороны, словно его это оправдывало.
–Убёгли!
–Растяпы! – взвизгнул Пётр Ослядюкович и, что есть силы, влепил кулаком Митрофану в лицо. Тот осел на колени, а Пётр Ослядюкович, взбесясь, лупил его, не глядя, пока не сбил кулаки в кровь и, морщась от боли, пошёл к кадушке с водой. Опустив подрагивающие руки в прохладную воду, сказал с досадой:
–Оружие на что вам?! Зарубить не могли! Сёмку зарубить надо было!
Пётр Ослядюкович посмотрел на фыркающего кровью, отплевывающегося, Митрофана.