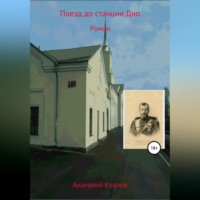Полная версия
Поезд до станции Дно
– М-м-м… Вассер! – ответила Мария Власьевна, слегка удивившись.
– А дом?
– Хаус, а вам зачем?
– А эт всегда пользительно, язык противника разбирать, эт у нас привычка…
– Вот что! – Мария Власьевна слегка плутовато прищурилась. – Ну, и как же будет «дом» по-японски?
– У японцев там дома не было, – сказал серьёзно Макаров. – А по-китайски «дом» – зхай
Макаров и отец Маркелл взяли по ведёрку, навесили на пояса, помимо своих, ещё по две пустые фляги и стали поспешать. Отец Маркелл выглядел забавно: в чёрной скуфейке и рясе с солдатским широким поясом, на котором теперь висели, как охотничьи трофеи, три фляги в чехлах, похожие на подбитых уток, с белой с красным крестом повязкой на рукаве и в невысоких пехотных сапогах с прямым обрезом. Когда он входил в операционную, то сверху надевал халат с завязочками на спине. А его длинные волосы, которые он забирал сзади тесёмочкой во время работы с ранеными, его клиновидная бородка придавали ему в условиях фронта и вовсе диковинный вид. Макаров сбегал в палатку и возвратился, пристраивая на пояс ещё и огромный полукилограммовый тесак в стальных ножнах.
– Трофейный, – пояснил он отцу Маркеллу. – Из Маньчжурии – штык-нож от японской винтовки Арисака. Таким вот мне под Ляояном ляжку распороли, что твоей рыбе брюхо. Добрая вещь, когда винтовки нет, не зря вёз.
Не зная дороги, Макаров отметил положение солнца, и они пошли напрямик через лесок, через изрытые немецкими сапёрами опушки, по полянкам, где свежи были следы боёв, перепрыгивая через ручейки и шлёпая по болотцам. Даже после военных действий и артиллерийской обработки местный лес казался чистеньким и словно расчёсанным гребёнкой. Они быстро добрались напрямую до поместья, и только оттуда, с возвышения, стало видно дорогу, идущую в обход позиций их подразделения, но до которой от лазарета было подать рукой.
Хотя хозяева оставляли жильё в спешке, всё выглядело пристойно и аккуратно, даже мусор нигде не валялся. Только в одном месте возле забора Макаров подобрал оброненную кем-то почтовую открытку: серо-коричневый немецкий солдат в каске с маленькими рожками, в полном боевом снаряжении жалобно выглядывал из-за проволочного ограждения. Вверху и внизу открытки было написано: «Helft uns fiegen!» и «Zierhnet Briegsanleihe»23
– Аки бес – черен и рогат, – заметил отец Маркелл, глядя на открытку.
– А лицо жалостливое, – возразил Макаров, – будто милостыню просит…
– Так ить бес завсегда ласков спервоначалу или жалостив, – неожиданно твёрдо для своего благодушия заверил отец Маркелл.
Они пошли вдоль весёленького зелёного забора из плотно пригнанных струганных досок. Такие заборы в Сибири были только у купцов, да и то, пожалуй, не столь блестящие и яркие, не столь ухоженные. Забор был явно не наш. Недалеко от ворот на заборе висел плакат: испуганная белокурая Гретхен с ужасом взирала на протягивающего к ней волосатые когтистые лапы бородатого, лохматого, с большими окровавленными клыками человекоподобного монстра в лохматой высокой папахе, вероятно, олицетворяющего русского. Слово «Kazak» Макаров понял без перевода.
– Ишь как они нас.., – подивился Макаров.
– Как с меня писали, – хихикнул отец Маркелл и погладил свисавшие из-под скуфьи волосы.
Макаров хмыкнул.
– Не, этот какой-то неброский, на юродивого похож. У нас Кирюша городской дурачок, вроде этого – с виду страшный, а приглядишься – жалость берёт. Вы, батюшка, с вашими лохмами пострашнее будете, даже вот и без тесака.
Макаров задержался у плаката, дивясь фантазии художника. Отец Маркелл вошёл в ворота: они, как и все двери в доме, были только прикрыты, но не заперты, чтобы дикие русские варвары не выломали замки или, чего доброго, не разнесли ворота и двери в щепы. Отец Маркелл совсем уже скрылся из виду, когда вдруг Макаров услышал, как он негромко, но тревожно, как показалось Макарову, вскрикнул. Макаров бросился к воротам, на ходу выдёргивая из ножен штык-нож. Перед его мысленным взором всплыло почему-то строгое и укоризненное лицо Марии Власьевны. Он даже успел проклясть себя за дурацкую беспечность – как можно так передвигаться на территории противника, выпустив товарища из виду? Даже если ты идёшь за водой! Но его небоевая должность и совсем невоенный сан отца Маркелла сыграли с ним дурную шутку…
Макаров влетел в ворота, держа наготове оружие, и чуть не сшиб с ног отца Маркелла, застывшего неподвижно почти у самых ворот. Священник стоял в странной позе с протянутой рукой, словно перед ним было некое пугливое животное вроде кабарги и он пытался приманить его, чтобы погладить. На самом же деле перед ним стоял рыжеватый светлоглазый юноша, с которым, видно, и столкнулся отец Маркелл, войдя в ворота, отчего и вскрикнул, не ожидая увидеть здесь людское существо, да ещё столь незрелое. Юноша показался Макарову довольно взрослым, но, разглядев хорошенько, он понял, что перед ними совсем ребёнок лет четырнадцати, просто рослый и крепкий.
– Ишь, – ласково сказал Макарову через плечо отец Маркелл, – Мальчонок ихнай.
Увидев русского солдата с громадным ножом, мальчик, и без того напуганный, вовсе стал безжизненно бледным.
– Спужался пострелёнок, – отец Маркелл указал рукой куда-то вниз.
Макаров посмотрел через его плечо на мальчика и увидел, как у того по светлой штанине коротковатых брючек расползается мокрое пятно, а снизу уже начинает капать. Макаров на всякий случай украдкой оглядел двор, дом, поглядел на окна. Ничего подозрительного он не обнаружил.
– Нам от водички б, – сказал, добродушно улыбаясь, отец Маркелл и похлопал рукой по ведёрку.
Мальчик продолжал смотреть на них, не мигая, казалось, он вот-вот потеряет сознание. Макаров догадался спрятать штык-нож.
– Водички, водички, – опять улыбнулся отец Маркелл, – фь, фь, – фыркнул он, поднося ведро ко рту и изобразил, что пьёт.
– Wasser? – догадался мальчик.
– Васер, васер, – обрадованно закивал отец Маркелл.
– Wasser ist.., – снова повторил мальчик, и, не зная как объяснить, указал рукой вглубь двора.
– И ладно, – сказал отец Маркелл. – А ты домой иди, понимаешь? Иди домой.
– Хаус, – вспомнил Макаров и махнул рукой в другую сторону.
– Nah haus? – опять догадался мальчик.
– На хаус, на хаус, – закивал отец Маркелл и сделал вид, что собирается идти за водой.
Мальчик попятился назад.
– Auf Wiedersehen.., – пробормотал он враз высохшими спёкшимися губами.
– Фидерзеин, фидерзеин, – повторил Макаров и снова махнул рукой в сторону.
Мальчик не стал больше испытывать судьбу и дал такого стрекача, что через секунду показалось, что его не было вовсе.
– Ишь, болезный, осикался, – покачал головой отец Маркелл. – С испугу-то…
– Нет, – вздохнул печально Макаров. – Не с испугу, это он от ненависти…
4
И протрубили, наконец, медные трубы над Иртышскими просторами, над берёзовыми колками-перелесками, земляничными полянками, над степными озёрами с заболоченными берегами, над поспевающими тучными ржаными да пшеничными полями, над многочисленными речушками, впадающими в Иртыш, пополняющими его силу – для тех, кто ещё не знал военной работы, кто ни разу не ходил в штыковую атаку, глядя в искажённое страхом ли, злостью ли лицо набегающего на тебя человека, который хочет зарезать тебя раньше, чем ты его, не сидел под завывающей над головой шрапнельной смертью, не видел, как режет пулемётная очередь идущих рядом с тобой людей, не падал живым мостом на проволочное заграждение, чтобы спасти от шквального огня бегущих по твоему телу товарищей-однополчан… Грянул во всю сибирскую ширь марш «Прощание славянки», заплакали матери и сёстры, провожая детей и братьев на ратную страду, зарыдали молодухи-невесты, чуя, что не всем им быть мужними жёнами, не всем суждено утешиться жаркими, страстными ночами в супружеских объятиях, не всем суждено зачать да выносить ребятишек, испытать материнскую радость и получить утешение на старости лет… Через месяц после мобилизации Макарова-старшего пришёл черёд идти на войну и для Ромы Макарова и его сверстников.
Накануне проводов вечером Устинья собирала сына в дорогу, тяжело и досадливо вздыхая, негодуя про себя, что много-то и не уложишь: «Там ить всё казённое выдадут», – думала она и разводила руками. Ну сухарей мешочек положила, хлеба каравай, чаю кирпичного плитку, полголовки сахару, добрый шмат сала да колбаски домашней, яиц варёных десятка полтора. Задумалась на минутку и уложила сверху чистое полотенце. Пока мать вздыхала над походным мешком, Рома сидел за столом, пил чай. Пил долго, неторопливо, будто желая напиться наперёд на целый год или больше. На столе стояли пирожки с зелёным луком и яйцами, с капустой, шаньги, большой румяный, истекающий соком курник. Ребятишки Тишка с Оськой уже поужинали, после чего им велено было лезть на печь спать или, по крайности, сидеть тихо и не мешаться под ногами. И они украдкой глядели оттуда на враз повзрослевшего брата, который, как и папка, отправлялся воевать с германцем.
В городе не гуляли, как в прежние годы, собирая новобранцев. Сухой ли закон тому был причиной или у всех такое сразу выработалось отношение к этой войне, а только тихо было. И от этого забирала жуть. Даже детишки малые не озоровали, не бегали и не галдели, глядя на старших, на то, как у пожилых людей увеличилось количество морщин, а у совсем ещё молодых уже кое-где они тоже обозначились, и дети начинали быстренько взрослеть и проникаться серьёзностью момента.
Послышались торопливые частые шаги, скрипнула дверь в сенях. Устинья разогнула спину, удивлённо взглянула на сына, тот только успел развести руками в недоумении. Открылась дверь в горницу, вошла Алёна Истомина, раскрасневшаяся от быстрой ходьбы или бега, чуть запыхалась, но тут же сделала вид, что вовсе и не спешила никуда.
– Добрый вечер, – поздоровалась она с Устиньей.
– Добрый, добрый, – отозвалась та. – Чё эт ты на ночь глядя? – и ещё раз взглянула на Рому.
– Роман Романыч, – вместо ответа обратилась Алёна, – можно вас на минутку? – она кивнула головой на дверь.
Роман кашлянул, поднялся из-за стола.
– Далёко ты его? – встревожилась Устинья.
– Да не, – уверила Алёна и даже засмеялась, – мы тут во дворе, только словечком перемолвиться.
Дом Макаровых стоял боком к реке, выходом вверх по течению. Справа от него к Иртышу спускались огород и сад – кусты смородины, малины, крыжовника и несколько яблонь. На них как раз уже поспевали небольшие яблочки, в аккурат с двугривенный. Из них на зиму Устинья делала варенье. Яблочки бросали в сироп вместе с хвостиками и варили. Удовольствие было в том, что они не разваривались, а так и оставались при хвостиках целенькие, только становились золотисто-прозрачными, так что просвечивали насквозь и видны были косточки. Из варенья яблочко доставали за хвостик и объедали – было удобно и вкусно.
Уже стемнело, однако ночь стояла тихая, лунная. Лунный свет, отражаясь в реке, осветлял сумерки, и на фоне воды было хорошо видно идущую Алёну.
Она не спеша пошла по тропинке к садику, прошла мимо ягодных кустов с остатками поздних ягод и встала, прислонившись у яблони. Рома шёл за ней. Когда она остановилась и, прищурившись, поглядела вдаль, он, вопросительно посмотрев на неё брякнул:
– Ну?
Алёна бросила на него резкий колючий взгляд.
– А ты с кем общаешься, может быть, с лошадью или с девушкой? Тоже мне «ну», – передразнила она.
– Ну… ты звала.., – начал теряться Рома.
Алёна фыркнула, как кошка:
– Звала… Больно надо, сам поплёлся. Мог и не ходить…
– Чего ты сразу-то? – Рома стоял на отяжелевших ногах, словно его подковали, как битюга.
– Сразу? – вспыхнула Алёна, – А ты прощение просить думаешь, или так и пойдёшь на свою войну?
– Какая она моя.., – грустно отозвался Рома. – А так.., прости – коли чего, только я перед тобой невиновен.
Алёна резко повернулась, глаза её превратились в узенькие щёлочки.
– А к Соньке ходили с Минькой, ходили ночью, а?
– Так из-за тебя же!
Алёна задохнулась от гнева.
– Ещё чего! Ещё чего придумаешь! И хватает наглости! Ну и кобели ж вы парни,… просто коты весенние – пакостники ! Которая поманит, а вам только и надо!
– Да, ей богу, из-за тебя! Ты же мне сказала, что Бога нет! Думаешь, я не догадался, откуда ты нахваталась… Ну, решил сам разобраться.
– А днём не мог сходить? – возмутилась Алёна.
– Днём-то ещё хуже, разнесут ведь…
– И так уж разнесли. У неё соседка сама вон – горазда. Да только втихаря, всё шито да крыто. Не на людях, как Сонька, зато уж о других язык почесать! Тень на плетень навести, дескать, вон оне бесстыжие, а мы не таки!
Они немного постояли молча. Алёна всё делала вид, что дуется, прислонившись бочком к яблоньке, поскрёбывала пальчиком по стволу. Рома слегка тронул её за плечо.
– Алён, – она только сверкнула глазами в его сторону. – Ну, Алёна…
Алёна резко повернулась.
– А ну – на колени! Становись на колени, срамец!
Рома быстро оглянулся.
– Чего ты?
– Я сказала: на колени! – говорила она негромко, притопнув на этот раз ножкой.
Но злости в её словах уже не было, разве что уязвлённое девичье самолюбие. Рома всё понял и, скрывая улыбку, наклонив голову, опустился перед ней на колени.
– Целуй руку, ну живо…
Рома взял её протянутую к нему руку, осторожно прикоснулся губами, потом прижался к ней лицом, почувствовал, как Алёна вся словно потеплела, будто была застывшая, да вдруг резко оттаяла. И он, обхватив руками её колени, прижался к ним.
– Ну ладно, ладно, – Алёна слабо оттолкнула его, – достаточно на сегодня… Ишь разошёлся – самовар. Не заслужил пока…
Рома поднялся с колен.
– Провожать-то придёшь завтра? – спросил он тихо.
Алёна выдержала паузу, потрепала концы платка.
– Посмотрю ещё на твоё поведение… Итак теперь из-за тебя к Соньке не хожу.
Но он уже знал, что придёт. Надо было прощаться, но Рома почувствовал, что ещё рано. Он неторопливо нежно обнял Алёну и поцеловал в губы, и она отозвалась на его поцелуй. И таким сладким показался он обоим. Что там яблочки с хвостиком из варенья – ни в какое сравнение не идут…
* * *Рома проснулся на следующий день раньше обычного. Сам – никто его не будил, как прежде. Начинавшее исподволь прозревать чувство ещё неосознанной тревоги разбудило его. Вначале оно ещё не было столь сильно и ощутимо, но постепенно сознание того, что вскоре ему предстоит не только надеть военную форму, освоить службу, стать солдатом, но и столкнуться лицом к лицу с врагом, дошло до него. Ранее усвоенные в связи с этим понятия: мужество, стойкость, храбрость, героизм – приобретали теперь особый, более отчётливый, конкретный смысл. Он уже не представлял, а как бы ощущал то взрыв снаряда: дрожание земли под ногами, действие ударной волны; то, казалось ему, слышал сопение надвигающегося на него немецкого солдата: чувствовал его запах, ощущал его дыхание. От этих предчувствий у него начинало странно подводить живот, что-то там сжималось внутри, по спине пробегал холодок. «Что это, – думал Рома. – Страх? – И его охватывал ужас и стыд за себя. – Неужели я трус? – мучительно спрашивал он себя. – Неужели я хуже, чем все? Ведь вот сколько народу, моих одногодков уходят нынче со мной на войну. Или, может, у всех то же самое, тогда какие же мы солдаты? Мы простые парни, которых оторвали от дома и посылают убивать таких же… Да! Точно таких же парней… Там, у них, с их стороны идут такие же люди. Но зачем? – В конце концов он дошёл до крамольных мыслей о бессмысленности войны и понял, что окончательно распустил нюни. Тогда он возненавидел себя. – Да ты трус, трус, просто трус, Роман Романович! – почему-то назвал он себя по имени и отчеству, так, казалось ему, будет строже. – А как же отец, который уже воюет, который однажды уже был на войне и вернулся с крестом на груди и весь израненный. Он-то что же? Напрасно всё это делал? Напрасно сражался, проливал кровь?» И он начинал бодриться, говорить весело, чересчур оживлённо, чем даже насторожил мать, разговаривая с которой почти не понимал и не слышал её слов. Отвечал ей невпопад. И так чуть не дошёл до истерики. Тогда только догадался прочитать девяностый псалом, известный в народе как молитва от нападения врагов. «Живый в помощи Вышняго» – чудодейственная молитва, о силе которой он был наслышан, но как-то сам на себе до сих пор не испытывал. И вот теперь твердил её с таким жаром, с такой жгучей верой, что почти тотчас же ему стало легче, будто вдруг одолевшая его немощь неожиданно рассеялась и расступилась. Он успокоился, и, глядя на него, успокоилась Устинья, успокоились и посерьёзнели и Тишка с Оськой, которым начало передаваться слишком оживлённое настроение старшего брата, а они в отсутствие отца уже почувствовали преступную сладость свободы, за которую не последует расплаты и наказания. Отец, Роман Романович, детей не сёк – случая не представилось. Может, тогда дети и сами понимали дисциплину и имели уважение к старшим. Но отцовский широкий солдатский ремень висел в избе на видном месте, и каждый знал – для чего…
В таком вот смиренном состоянии духа Макаровы всей семьёй и вышли за ворота на улицу, и тут Роман со смущением сразу отметил, насколько все, кому предстоит сегодня уйти вместе с ним в армию, оживлены и неестественно веселы. Ему сразу всё стало ясно…
Возле ворот их ждала Алёна. Она не пошла навстречу, а подождала, пока Роман с родственниками приблизятся к ней.
– Привет, – делая вид, что случайно тут оказалась, сказала Алёна Роману, когда тот подошёл к ней и поздоровался.
Устинья, взяв за руки Тишку и Оську, намеренно приотстала, пропустив Романа с Алёной вперёд, чтобы дать им возможность поговорить. Она шла позади Ромы и Алёны, делала вид, что смотрит по сторонам, здоровается со знакомыми и родственниками дальнего родства – вроде «двоюродному забору троюродный плетень», даже что-то отвечала кому-то. На самом же деле она в который раз уже примеряла Алёну себе в невестки, зорко вглядываясь в неё. И многое ей было не по душе. Устинья Ладина происхождением была из староверческого рода, одного из тех, что после восстания 1722 года, зачинщиками которого были насельники старообрядческих скитов, в 1725 году под давлением властей вынуждены были принять троеперстие и ходить в церковь. Но порядки и нравы в семье Ладиных и поныне отличались строгостью, устойчивостью традиций и нравов, много времени уделяли домашней молитве. И хотя Устинья знала, как толкуется старообрядчество православной церковью: «Только то архиерейство и священство имеет благодать и власть апостольскую, которое без малейшего перерыва ведёт своё начало от самих апостолов. А то архиерейство, у которого в преемстве был перерыв, промежуток, как бы пустота, есть ложное, самочинное, безблагодатное. А таковое и есть лжеархиерейство у называющихся старообрядцами…», – такое толкование не могло не привести к признанию реформированной церкви. На деле же такая установка делила Русскую православную церковь надвое, рассекала живое тело Христово – тело Церкви, разделяло русский народ…
Однако же, выйдя замуж и поселившись в городе, Устинья не могла не заметить разницу между тем, как неизменными остаются устои и обычаи старообрядцев, как суровеют со временем их нравы в стремлении сохранить незыблемым древнее благочестие – что, по её мнению, оправдано наступлением новых времён, и тем, как всё легковеснее, а главное, бездушнее – становится отношение к вере у православных, к той вере, которую она лично приняла всем сердцем, всей душой и готова была за неё стоять насмерть. Божья благодать была с ней повсюду – и в церкви, где она чувствовала себя спокойно и безопасно, и в ту пору, когда носила своего первенца, да вдруг захворала, и чуть не потеряла ребёнка. И только беспрестанными молитвами её и соборованием были оба они спасены. И тогда, когда, узнав, что у мужа её после ранения в 1904 году началось осложнение – заражение крови, она поехала за триста вёрст просить батюшку Иоанна Кронштадтского помолиться за болящего Романа, а много позже узнала, что уже через три дня после этого почти совсем безнадёжный Роман Макаров пошёл на поправку. Да и в её спасении ещё во младенчестве, когда заболела она лёгочной горячкой и уже лежала без сознания, на последнем дыхании, вдруг на пятый день чтения канона о болящем младенце Устинье, открыла глаза и потянулась ручонкой к стоящему на столе чугунку с варёной картошкой.
И когда пришла пора ей выходить замуж, она и родители её были весьма довольны, что сватается к ней выходец из старинного казачьего рода, чей прадед с братьями тоже принимали участие в староверческом восстании. Одного из братьев тогда казнили, остальные были сечены кнутом и так же принуждением приведены в «новую» церковь.
Имея в виду всё это, можно представить состояние Устиньи – близкое к ужасу, когда взирала она на Алёнины наряды, на её крашеные брови, слышала её непривычно громкий смех, не в меру звонкий голос, заметила её привычку не краснеть в присутствии парней и не опускать глаза, не наклонять голову, когда те нахально пялятся на неё. И это притом, что Устинья ещё не слыхала высказываний Алёны о Боге и рассуждений о жизни. Удивляли Устинью и нынешние понятия о красоте. Вот Алёна – да, девушка видная: тонкая талия, крутые бёдра, шаг лёгкий, быстрый, спина прямая, плечи развёрнутые, высокая грудь. Но двигается – то чересчур резко – нет девичьей плавности, то наоборот вразвалку – словом, мужиковатая в движениях, грубовата, не лебёдушка, не лада. Вроде как с парнями соревнуется. А в семейной жизни как? Тоже захочет вровень с мужем встать? Теперь лицо: правильный овал, губы тонкие, ротик маленький, носик аккуратный, большие серые глаза – залюбуешься. Но вот она улыбнулась, засмеялась, и что-то звериное, хищное появилось в лице, рот слегка перекосился, глаза, вместо того, чтобы потеплеть почернели, кольнули иголочками, загорелись огоньком – недобрым огоньком, бесовским. Ноздри расширились, брови изогнулись так.., ну бог знает как, а только неприлично, девушка добрая не может так улыбаться. И изогнулась вся, перекособочилась, бёдрами заиграла совсем неприлично…
Стала подмечать Устинья, что люди, в особенности молодёжь, красоту начали понимать как-то не так, внешнюю сторону, что ли. Всё пытаются закрыться, занавеситься кисейкой, замаскировать что-то. Наряжаются вот, ну нарядно ещё куда ни шло, а то с форсом особым, с шутовством каким-то. Вот Алёна брови чернит, хочет лучше выглядеть, а лицо всё выдаёт – всё её нутро, а внутри благолепия-то, похоже, и нет. Помнила Устинья, да ещё и теперь встречала истинно красивых девушек. Посмотришь бывало – ничего особенного в девушке нет, неприметная даже. А подойдёшь, словом обмолвишься – улыбнётся она тебе, слово скажет и пойдёт, а ты смотришь вслед и любуешься – красавица-лапушка. А тут сколько ни крась – срам один. Как почнёт глаголоть или смеяться, так вся красота слетает и проявляется такое, от чего избавить просишь Господа денно и нощно. И, к ужасу своему, заметила Устинья, что эти крашеные брови нравятся Роме. Не видит он, что ли, чёрное от светлого отличить не может среди бела дня. Или слепа любовь? А любовь ли это? Как же они с мужем тогда любят друг друга без всех этих уловок? Ну, а если это не любовь, тогда что? Вот тут и был камень преткновения. Тут и видела Устинья, что наступали новые времена, и нравы наступали другие, и люди. Не по её разумению. Всё это Устинья не столько понимала, сколько чувствовала. Спроси её, чем ей Алёна не люба – не скажет, только брови нахмурит, да губы подожмёт и выдаст: – Дурная девка. – А чем дурная, чем других хуже? Тут уж она не умом, тут она чутьём свои женским руководствуется.
И только сегодня, выйдя за калитку и увидев, как Алёна подошла к Роме, Устинья, долго откладывавшая серьёзные раздумья о их судьбе на потом, вдруг осознала, что этого «потом» уже может не быть, и только неуместная в жизни война – не сулившая ничего, кроме разлуки, а может, и более тяжких испытаний, неожиданно даёт ей передышку, а её сыну и его избраннице урок терпения и испытания на верность и серьёзность намерений.
Но так выглядела Алёна в глазах Устиньи, имеющий свой опыт и свои суждения. В городе же Алёна слыла красавицей, а что до её характера – так молода ещё, поживёт своё, сто раз переменится. И то сказать: за какой бабой бес не ходит? Дьявол вначале Еву соблазнил, а уж она потом Адаму яблоко подсунула…
Провожали новобранцев торжественно, поэтому место сбора выбрали на центральном месте в нагорной части, возле торговых рядов и старой тарской крепости, у высокого белокаменного собора Святого Николая Чудотворца, построенного ещё в позапрошлом веке и имевшего два придела: Святых первоверховных апостолов Петра и Павла и во имя Священномученика Харлампия.
Там с утра стоял небольшой сборный оркестрик и чуть фальшивя, но бодро оглашал окрестности старинным маршем, на мотив которого писатель Владимир Гиляровский вскоре специально напишет слова «Марш Сибирского полка»: