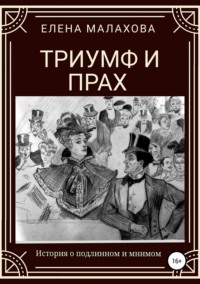Полная версия
Бледный луч
– Звонил Фрэнк, Луиза. Он приглашает нас троих завтра к себе пообедать.
– И ты согласился? – чуть ли не вскрикнула миссис Морган.
– Я не мог поступить иначе, это невежливо! В конце концов, мы же не дикари неотесанные! Да и приглашение скорее звучало от имени Чарли. Он-то нам плохого ничего не делал.
На следующий день с тяжёлым сердцем семья Морган отбыла на обед. Погода стояла чудесная, небосвод окутывал землю своим чистым, ясным как лазурит, покровом. Воздух прогрелся, и уже никому не верилось, что зима так жестоко обходилась с ними неделю назад. Скорое приближение весны дарило им надежду на радость, и все выжидали, когда природа встряхнется от зимнего сна и возродит душевные пейзажи тепла и ярких красок. И разодетые лондонцы, слоняющиеся от скуки, выглядывали эти пасторальные этюды и сыпали улыбками. Эмма тоже улыбалась им беззастенчиво, жадно впитывая взгляды прохожих, с которыми стремилась поделиться своим нескончаемым счастьем. Те, кто охотно ловил ту заряженную улыбку, не оставались равнодушными и улыбались ей в ответ.
К удивлению Луизы, жилище О'Брайнов не являлось тесными арендованными комнатами. Это был складный дом из белого кирпича, массивный, квадратный, с двумя этажами, эркером наверху, крытым портиком и облагороженной лужайкой, где летом стелется пышная трава и зеленеет самшит. Эмма злорадственно глянула на мать, а та с немым недоумением останавливалась глазами на клумбах и больших окнах выступающей части фасада.
– Они точно живут здесь? – тоже смутившись, уточнил мистер Морган.
Луиза достала из сумочки пенсне и сложенный лист, где мистер Морган на всякий случай записал адрес Чарли О'Брайна.
– Всё так, если верить сведениям на бумаге, – подтвердила Луиза.
Хихикнув, Эмма поспешила к порогу. Дверь им отворила солидная горничная, в платье с оборками и стоячим воротничком, одетая чуть ли не лучше самой миссис Морган, которой от сего наблюдения стало неуютно. Горничная забрала их верхнюю одежду и любезно пригласила проследовать в гостевую комнату, где мистер О'Брайн примет их.
Ещё в дверях той самой гостевой комнаты появился высокий дюжий лакей, очень молодой и тоже опрятно одетый, и предложил следовать за ним. Эмма уже бывала здесь на чаепитии и потому шла, глядя вперёд, а родители Эммы вертели головой туда-сюда, не понимая, откуда взялась вся эта помпезная обстановка у простолюдина, принимающего больных в амбулатории.
Мистер Морган – человек утонченных позиций, смело понимающий в искусстве, видел в ней успокаивающую красоту. Он считал, что нельзя обойтись без картин, несущих некий божественный уют в суетность дней, когда перед глазами мелькают одни белые листы и черные буквы. Ему не доставало этой красоты на рабочем месте. А здесь он очутился в среде, где красота обитает вокруг: репродукции Мане, Дега; скульптуры, оживляющие черты творений Микеланджело; пузатые вазы с росписью греческой мифологии – на одной признал Геракла, на другой Ареса и Аида. Везде лежали гладкие ковры с ярким орнаментом, мебель эпохи Людовика XIV впечатляла красным деревом и черно-золотыми элементами отделки стен. В апартаментах смешался дух богатства и романтизма. Безусловно, О'Брайнов нельзя упрекнуть в безвкусии и нищете.
У Луизы Морган недоверчиво приоткрылся рот. Она никак не ожидала побывать в таком отличном доме, где поработал исключительный интерьерный мастер. Лакей распахнул двери, и трое вошли в такую же богатую комнату с размашистыми креслами посредине, столиком-буль рядом с ними и роялем в дальнем углу. На столе лежал поднос с закусками, бренди, виски и содовая, чашки из тонкого хрупкого фарфора и чайник из коллекции дорогих сервизов.
– Располагайтесь. Мистер О'Брайн спустится с минуту на минуту, – сказал лакей и удалился, не поворачиваясь к гостям спиной.
Спустя пару мгновений двери стремительно распахнулись, и в комнату с представительной улыбкой залетел Чарли О' Брайн. Его массивное плоское лицо истончало доброжелательность и здравие. Удлиненные волосы до мочек ушей, полностью седые, такие белые, что напрягало глаза, зачесаны слегка назад, дабы не нарушать правильный контур лица. Брови тоже белые, как у старца, колосились над темными глазами. Он был воплощением добра, воином божьей армии, и белый халат был тем самым необходимым атрибутом, который завершал образ спасителя. Он обладал твёрдой походкой, ходил всегда очень быстро, и могло показаться, что постоянно куда-то не поспевает. За его массивными плечами не сразу был виден Фрэнк, отстающий от отца в росте на полголовы. Фрэнк глазами разыскивал Эмму. Пока родители расшвыривались любезностями, она аккуратно приблизилась к нему.
– Ничего не вышло, Фрэнк, – горестно шепнула Эмма. – Родители против.
Фрэнк загадочно улыбнулся.
– Предоставь это мне.
Разговор клеился, как надо. Чарли справлялся о здоровье Луизы, а она, не допуская и капли лицемерия, отвечала ему мило, но весьма натянуто. Мучимая любопытством и тревогой, она не знала, куда себя деть лишь бы поскорее начался разговор о том, для чего их туда созвали. Зато мистер Морган, не забивающий голову женским мусором, совершенно поплыл, когда ему сказали, что выглядел он, как Александр Македонский в полном расцвете сил. Падкий на комплименты, которые, надо сказать, толком не получал, так как родился не женщиной, он никогда не задумывался о том, как действительно выглядит глазами посторонних. Он был довольно щуплым, но жилистым, имел мягкий, очень красочный баритон и нафабренные усы, пикантно добавляющие облику гусарских акцентов. Да и глаза у него были маленькие, бесхитростные, больше глуповатые. Лесть порадовала его уши, и мистер Морган был настроен только на мирные беседы.
– Могу я предложить напитки? – с улыбкой осведомился Чарли.
– Да, в горле пересохло. А у вас тут целый арсенал бутылок, – посмеялся отец Эммы.
Чарли расхохотался веселым задором, и мистер Морган подметил, что за всю свою жизнь не посчастливилось ему слышать такого чудесного открытого смеха.
– Я вам хочу признаться, что жить как герцог далеко нелёгкая задача. По ночам я часто просыпаюсь от ощущения, что падаю с кровати, подойти к которой можно с обеих сторон, а не с одной, как было принято в нашей квартире, где кровати стояли у стены.
Снова посмеялись. Морганы восприняли слова Чарли с юмором, тогда как доктор отпустил правдивое замечание. Чарли подался к столику и налил порцию бренди, и мистер Морган припомнил, что ни разу не заставал врача с алкоголем в руках.
– А вы, Чарли, что же, совсем не пьёте?
– Нет, я придерживаюсь чисто профессионального мнения, что каждая из тех красивых бутылок с заманчивой этикеткой – медленный, но верный яд. И пьянство ничуть не лучше самоубийства. Трезвость мыслей очень важна в моей профессии. Да и, между нами говоря, формулы бренди так впечатляют своей наглядностью, что, право, зная их, пить уже не хочется.
Они снова подняли волну смеха, на этот раз не устояла и мать Эммы.
– Чего у вас не отнять, доктор – так это прямолинейности! – подчеркнула Луиза.
Радушно улыбаясь, Чарли поднёс стакан мистеру Моргану и спросил Луизу, что предпочтет она. Вскоре мистер и миссис Морган (в коем– то веке от волнения позабывшая о желудке, ибо нервы куда важнее) пропустили по стакану бренди; Фрэнк и Эмма испили кофе, а мистер О'Брайн выпил свой стакан с впечатляющим удовольствием, и никто б и глазом не повёл, что там находилась обычная минеральная вода, а не какой-нибудь прелестный нектар Богов из сердца Сицилии. Обстановка обогатилась бы тишиной, если бы врач, прозорливо чующий неловкие паузы, не скрасил бы её своим звонким бойким голосом. Надо заметить, что напряжение чувствовали все, кроме самого Чарли. Он отшучивался и смеялся, говорил, что будь у него в запасе скверная привычка курить, сейчас настало бы самое подходящее время уничтожить сигару. Мистер Морган курил изредка, но тут, восхищенный приёмом, захотел получить от жизни все услаждающие дары. Потому счёл предложение уместным, высказываясь о том во всеуслышание. Что плохого после бренди почуять послевкусие табака? На этот случай Чарли О'Брайн всегда имел запас кубинских сигар, подаренных ему пациентом. Подарок, конечно, виделся Чарли ножом, который не вонзили в спину, а положили рядом, так, на всякий случай. Однако, благодаря компромиссной мягкости из любой ситуации доктор выходил с разряжающей шуткой.
Чарли требовательно относился к собственному здоровью, а также видел своим долгом оповестить другого человека о пагубности привычек в лёгкой необязывающей форме. Настаивать, а уж тем более осуждать понятия других считал открытым вторжением на частную территорию, недопустимое ни под каким видом.
Итак, собираясь искурить сигары, они прошли в другую комнату, чуть меньше предыдущей, ничуть не уступающей в пышности интерьера. Затем врач в шутливой форме попросил Эмму и Фрэнка оставить их.
– Ни к чему вам взрослые разговоры, дети мои, – подмигнув молодым, он показал жестом на дверь.
Двое вернулись в гостевую. Проявляя бдительность, Фрэнк заметил волнение Эммы и всеми доступными способами принялся убеждать её, что всё обойдётся, заботливо обнимал её и целовал её тёплые руки. Это были прекрасные минуты. Её суетливое сердце билось в унисон с его, а за тонкой стеной той минутой решалась их судьба.
Через десять минут улыбчивый О'Брайн и Морганы вошли в гостевую, и Чарли торжественно объявил о помолвке молодых и свадьбе в конце месяца.
– А чего тянуть!? – смеялся Чарли, сверкая зубами. – Как говорится, "куй железо, пока горячо! "
Эмма никак не могла взять в толк, почему лица родителей довольные и радостные, особенно мистера Моргана. Любопытство было удовлетворено тем же вечером.
– Ты знала, дорогая, что О'Брайны – люди весьма обеспеченные? – вдруг спросила Луиза, когда Эмма помогала накрыть ужин на стол.
– Разве они обеспеченные?…
– Еще как! Представь себе, некий знатный пациент оставил Чарли в наследство два больших дома, ценные бумаги и некоторые коллекционные картины. Теперь они всю жизнь могут не работать, им с лихвой хватит нажитого имущества. Великолепно правда, что вы помолвлены?
Эмма скривила губы в язвительной иронии.
– Помнится, ещё вчера ты отказывалась иметь дело с недостойными людьми… Как быстро, оказывается, можно получить почётное место в обществе: всего – то два дома и ценные бумаги.
Миссис Морган поставила блюдо спаржи на стол, покрытый скатертью, и поглядела на дочь невинными глазами.
– Дорогая моя, когда ты начнешь разбираться в людях так, как разбираюсь я – ты добьёшься колоссальных успехов! О'Брайны не только достойные, они ещё и очень щедрые. Фрэнк отказался от дома во Франции, подаренного ему отцом, в нашу пользу. И теперь мы можем перебраться в Ля-Морель и, наконец, зажить так, как заслужили нелегким трудом и порядочным образом жизни. Я буду устраивать там обеды, ужины каждый божий день! И все будут говорить, какая благородная женщина – Луиза Морган, гробившая свои дни в скучном Лондоне.
В эйфории миссис Морган направилась на кухню. А Эмма осталась у стола с видом понимания и усмешки, и, когда та вернулась с хлебом, Эмма отписала ей непристойное замечание:
– Интересное положение: Фрэнк купил нас с потрохами, а вы, мама, радуетесь тому, что продали родную дочь за дом в Ля-Мореле?
Луиза выпятила округленные возмущением глаза.
– Откуда у тебя такие глупые мысли!? Единственное, чего я жажду всем сердцем – так это чтобы ты была счастлива, и само собой, обеспечена. И если хочешь знать, Фрэнк подарил нам не обычный дом. Находится он в престижном районе, у него два этажа и прислуга! – Луиза трагично выдохнула. – Пойми наконец, мне меньше всего хочется, чтоб ты работала, как проклятая. Мы дали тебе неплохое образование, но у тебя, дорогая моя, и чайник в руках не задерживается. – Луиза приобняла Эмму за плечи. – Ты не создана для работы, ты создана для любви. Так пусть ваше счастье длится вечно!
Мистер Морган тоже пребывал в прекрасном расположении духа, и как только радость плотного обеда О'Брайнов иссякала, он садился обратно за бумаги и перечитывал слова дарственной на дом. В нём не было столько честолюбия и снобизма, как в жене, но почему бы не совмещать приятное с полезным? Он столько лет положил на контору, трудился от зари до зари, брал уйму работы на дом. Пора бы и честь знать! Силы человеческие невечны, и он вполне заслужил немного расслабляющего покоя. Как любящий отец, он прежде всего радовался, что Фрэнк – очень порядочный, разумный мужчина. Он не из тех, кто рукоприкладствует, пьянствует и живёт распутно. А разве существует нечто более важное, чем преданность и спокойный быт?
Таким образом все находились в приятном ожидании церемонии. Особенно Эмма пребывала в волнительном нетерпении получить статус жены достойного и умного врача. Эта сладостная вероятность будущего доводила её до всепоглощающего экстаза. Распаленное, как уголь, сердце начинало чеканить ритм без остановки. Одно лишь смущало её: почему Фрэнк, располагая к ней любовью, отказывался свидеться с ней в дни нещадной метели.
При первой выпавшей возможности она спросила Фрэнка, и тот, будучи мужчиной честных правил, не стал уклоняться от вопросов, которые стоило разрешить до свадьбы.
– Мне пришлось отбыть в Ля-Морель к матери, – пояснил Фрэнк. – Она недавно переехала туда, а накануне той лондонской метели сломала ногу. Я очень беспокоился и поехал проведать её.
Хоть значительную часть юности Фрэнк провел рядом с Чарли и теперь – когда их объединяла общая спасительная цель – жил рядом с ним, Фрэнк всё равно страдал большей привязанностью к матери. Прислугой Габриэла О'Брайн не бедствовала, но ей не доставало присутствия сына, способного улучшить её здоровье одним лечебным словом. Умея повлиять на мнение сына добрыми словами, она всегда брала верх над его желаниями.
Выслушав будущего супруга, Эмма сочла поступок Фрэнка верхом благородности. Её раздувало от гордости и уважения, что он так ценит родную кровь. Это верный признак процветания их семейного союза и того, что Эмму он никогда не обидит, как не обидел бы собственную мать.
Эмма не выставляла притязаний, когда Фрэнк, сумев договориться о дальнейшем обучении в Ля-Мореле, изъявил волю уехать туда пожить до свадьбы. Чарли, окруженный сотнями пациентов, объяснил Фрэнку, что не представляет возможным отъехать из Лондона даже на день, чтоб не выпасть из плотного графика приёма. Габриэла О'Брайн осталась одна-одинешенька среди многочисленных прислужок, и у Фрэнка сердце было неспокойно, как она там справляется в одиночестве.
Считая беспокойство и заботу Фрэнка необходимой платой матери за подаренное добро, Эмма решительно сказала:
– Поезжай, Фрэнк. Скоро мы будем всегда вместе.
Она тепло поцеловала жениха в щеку, украшая губы застенчивой улыбкой.
– Ты правда не обидишься? – Фрэнк глядел на Эмму с восторгом, от которого она лишь утвердилась в своём намерении послужить жениху опорой.
– Нет конечно! Ей сейчас нужна твоя забота.
– Господи, как же мне повезло с женой! Я люблю тебя, Эмма! – они обнялись, а их сердца одинаково наполнялись любовью и уважением друг к другу.
Пока он жил в Мореле до свадьбы, а Эмма тосковала по нему в Лондоне, общались они мало: иногда по телефону, реже – писали письма. Желающий проявить свою глубокую чувственность, Фрэнк пыжался изо всех сил выразить на бумаге свою любовь к Эмме. Но вместо ласковых признаний у него получались топорные, мужланские послания, которые удивляли его самого. Он рвал листы и снова брался за работу. Увы, количество попыток не наделяло его слова умиляющей теплотой. Потому обходился он пятью строками, в которых кратенько излагал вести.
Такая переписка ужасно огорчала молодую невесту. Её мечты зиждились на необузданном влечении к нему, любви и полном уверении, что никого больше не полюбит также сильно. А бесчувственные эпистолярные отношения сбавляли в ней жар, противоестественно наводя смуту в мыслях.
Однако, день свадьбы близился, и она находила в этом своё ненаглядное утешение.
5
Ветер перемен не заставил себя ждать, привнося в мелодию семейного счастья скверну гнетущего реализма. Венчание проходило на чинном уровне согласно канонам англиканской церкви и завершилось в апартаментах дома О'Брайнов.
В тот ненаглядный день Эмма получила первый урок, который оставил неприятный осадок. Пока шла брачная процессия, Эмма не смела думать ни о чем, кроме Фрэнка, их весёлого будущего и любви. Но в разрез ожиданиям девушки, жених расточал улыбки и с радостью получал комплименты. Эмма ловила его взгляд, а он смотрел вокруг с довольным лицом, наблюдая, как гости полушепотом восхваляли новобрачного.
– Красавец, хоть и юный! – говорила миссис Б.
– Да, такой далеко пойдёт! – кивнула рядом стоящая мисс Л.
У Эммы создалось ощущение, что быть в центре внимания для Фрэнка важнее, чем смотреть на жену и вздыхать о предстоящем семейном блаженстве. Эмма оскорбилась до крайности, но виду не подала, желая сохранить праздник.
После церемонии они обсудили, как провести медовый месяц. Планы сосредоточились на поездке в Рим, куда Эмма грезила поехать. Фрэнк любил постоянство. Смена обстановки уничтожала в нём самоуверенность. Приспособление к новому отнимает силы и время, а в последние годы Фрэнк научился ценить и то, и другое. Но как бы там ни было Эмме он уступил, обещая отправиться в путь в июле, до которого оставалось чуть больше четырёх месяцев. Эмма примерно ждала.
По прошествии трёх дней Фрэнк настоял на желании перебраться в Ля-Морель и приглядеть за больной матерью. До венчания Эмма имела радость видеть её дважды. Это была очень красивая женщина с высокими скулами, гладко вычерченным лбом, тонкими бровями, очень худая исполинка, но безмерная худоба была ей только к лицу. Если бы за то, каким человек наделён сердцем, отвечали бы размер и форма глаз, безусловно, Габриэла О'Брайн могла бы с честью заявить, что получила самую большую душу, какую только можно себе вообразить. Её родители – чистокровные французы имели своё гончарное дело в Ромнише (в сорока милях от Ля-Мореля). Она была воспитана, образована, прекрасно держалась в седле и играла на фисгармонии. Речи её текли рекой; многие считали её истой резонеркой. Эмму она приняла тепло, и они сразу нашли общий язык. Могли рассуждать о важном и повседневном с лёгкой непринуждённостью. Эмма была счастлива.
По весне у Фрэнка началась медицинская практика в больнице Св. Дионисия. Приходилось отдавать по восемь, порой десять часов в день на первичный осмотр пациентов. Работа была непростая и нервная; некоторых больных доставляли без сознания, отравленных алкоголем или прочей дрянью, с поломанными конечностями или вспоротым животом. Фрэнк совершал самую грязную работу: бинтовал, промывал раны, ассистировал, ставил дренажи, убирал всякие испражнения, и делал это с терпимым добродушием, не разграничивая бедных и богатых, пропащих и солидных – всех ровнял одной линией, и каждому оказывал надлежащее внимание, согласно данной клятве служить людям со всей душой и преданностью.
Домой Фрэнк возвращался после семи вечера. Эмма умела кое-что готовить из еды и, отпустив кухарку раньше положенного часа, вызвалась сообразить ужин сама. Она обольщалась, что, сделав Фрэнку приятное, он станет любить её ещё сильнее.
Пока отменные блюда томились на газу, Эмма проглядела все окна. Не проходило полминуты, она в бесчисленный раз отодвигала занавесь и всматривалась в темноту безлюдного двора. Её сердце стучало в быстром ритме радости от всякой тени, внезапно возникшей перед портиком дома, и сильно расстраивалась от того, что тень не принадлежала супругу.
Ужин был готов незадолго до прихода Фрэнка, уставшего, но довольного тем, что его встречают с почестями.
– Как пахнет! – потирая вымытые руки, он прошёл к столу. – Я готов съесть целую свинью!
– Садись, я тебя покормлю.
С улыбкой Эмма закончила накрывать на стол, и зашла прислуга, сообщив, что больная миссис О'Брайн просит сына подняться к ней. Фрэнк ласково поцеловал жену и поднялся наверх, а когда вернулся – выглядел опечаленным.
– Ты не огорчишься, если поужинаю с мамой? – спросил он, обняв Эмму со спины. – Сегодня ей не здоровится, нога не даёт покоя. И она очень скучает в четырёх стенах.
Эмма выстрадала улыбку, а сердце кольнуло болью разочарования. Готовясь к вечеру, её переполняло стремление разделить ужин на двоих, побыть наедине, чтобы наверстать часы разлуки. Ей определённо не доставало его. Она вспомнила, сколько печали хапнула, когда жила вдали от него до свадебной церемонии.
Тем не менее она не упрекала Фрэнка в отчужденности, уповая на медовый месяц, где они уж точно будут счастливы. А кроме того согревала в душе эгоистичную надежду, что миссис О'Брайн поправится – чего ей искренне желала – и они отбудут с Фрэнком в Лондон вдвоём и навсегда. Там наедине он отвлечется от забот и полностью отдастся любви с юной женой. Но ко всеобщей печали, дела со здоровьем Габриэлы шли туго.
У Эммы не было никакого желания ссориться с мужем в самом начале любовной тропы, и она пересилила бунт кипящей страсти.
– Конечно, я не против. Велю отнести блюда наверх.
– Ты не сердишься? – уточнил Фрэнк.
– Нет, ей действительно сейчас нелегко.
Фрэнк отпустил одну руку, все ещё обнимая другой супругу.
– Ты настоящее чудо!
Он поцеловал её в лоб и очень усталым шагом поднялся по лестнице. Горничная отнесла ужин наверх, а Эмма в мучительном одиночестве съела немного курицы, овощей, запила пуншем, ушла в спальню и приняла ванну.
Той ночью Фрэнк нежил её в ненасытной любви, и Эмма поняла, что сполна получила за испорченный ужин. Утомленная плотским, она заснула, счастливая и довольная, на его худенькой груди, а утром Фрэнк проснулся за полчаса до положенного часа и принёс ей в спальню кофе со свежими рогаликами. Они позавтракали с одного подноса, и никак не могли наговориться: один не уступал другому; хватались за всё, что приходило в голову, и пыл одного разгорался за счёт пыла другого.
Через неделю состояние Габриэлы улучшилось. Фрэнк пропадал в больнице целый день, и Эмма проводила с ней много времени, располагая к обоюдному пониманию и беседам. Они вместе вязали на спицах или вышивали. Габриэла показывала Эмме мастерство, отточенное худенькими руками. В свою очередь Эмма, не чураясь естественного, помогала ей менять постель, одежду и справлять нужду, на что Луиза Морган сердилась в разгоряченных письмах к Эмме. Не сдерживая негодования, Луиза срамила девушку за то, что та неправильно поставила себя с О'Брайнами, раз её оценивают, как сиделку. По чванливому мнению матери, Эмма – девушка знатная и не для того родилась, чтобы служить на побегушках.
Взгляд Эммы сильно разнился с отлично скомпонованной позицией миссис Морган. Она нисколько не смущалась процедурам ухода за Габриэлой и выполняла долг человека, связанного второстепенным родством, без какой-либо брезгливости. Луиза сохраняла неумолимый тон в каждом письме.
Между тем близость Эммы и матери Фрэнка росла с невероятной силой. Эмма мирно слушала её и всем своим видом напускала покорность младшего поколения перед старшим. Ею двигало намерение заслужить признательность мужа, а умение сходиться с людьми – верный плюсик к достоинствам молодой жены. Габриэла отметила, что Эмма обладала терпеливым нравом и хорошими манерами, и это сподвигло её на откровенность, равную исповеди. Речь пошла о несчастливом браке миссис О'Брайн, из чего Эмма узнала о свёкре.
Чарли отдавал себя на нужды высоких целей без остатка, любил соблюдать строгую, моральную размеренность во всём; при этом обладал импозантностью и позитивным запалом. Одно его присутствие разжигало в больном человеке свечу здорового духа.
Отношения Чарли и Габриэлы не поддавались анализу молодым разумом. Эмма видела в наступлении старости конец всему, что так волнует юнца в период цветения его кожи и глаз. И главным образом приписывала зрелому возрасту лишение всякой сентиментальности. Неужели люди способны любить на границе сорока шести лет? Эмма смотрела на Габриэлу с недоумением, и последняя не представляла, какое смятение вносит в огненную душу невестки. Выслушивая сердечные изыски признаний, Эмма совокупила их в возмутительное предположение, что Чарли женился на Габриэле не по любви, а ради святого обязательства перед Богом и государством; число мужчин на земле значительно меньше женщин, и лишать семейного счастья хотя бы одну из печальной статистики было бы эгоизмом. По словам Габриэлы виделись они с Чарли на Рождество и именины, чем вполне довольствовался мистер О'Брайн. Он присылал ей раз в месяц письмо сердечного врача, твердившего, как важно сохранить здоровье в прилежном состоянии и не грешить с чревоугодием. Наблюдая, как эта тощая женщина без морщин и красотой греческой богини, не сумела выплеснуть огромную любовь, становилось интересно, каким чудом врач уберег себя от чар французской belle femme. Эмме показалось, что душа у Габриэлы не менее красива, чем лицо, а мудрость её не идёт ни в какое сравнение. Хотя Габриэла скромно призналась в другом своём качестве: несклонности к нравоучениям, и наглядности ради привела Эмме пример.