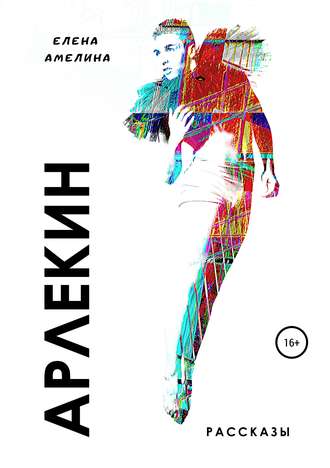
Полная версия
Арлекин
Готовилось нечто грандиозное. Как потом оказалось, грядущий четверг должен был стать кульминацией, завершением сезона. Контракт истек, а Хофман никогда не продлял его более оговоренного срока.
Жизнь его была расписана на десятилетия вперед, все хотели себе Арлекина, самые модные буржуазные клубы Европы наперебой зазывали его к себе, соблазняя запредельными гонорарами, соревнуясь между собой, кто даст больше.
Он был в своем роде звезда. Только тихая, без громкой славы, поистине ночная, редкая и неповторимая, ровно как и неповторяющаяся никогда. Черпая силу в своих фантазиях, артистизме и эксцентричности, он с деловой хваткой вел свою маленькую труппу из города в город, из страны в страну. И люди шли за ним, бросали семьи, стабильную работу на одном месте, медицинские страховки и знакомых с детства психоаналитиков и ввергали себя в пучину и коловорот бесконечных гастролей, не ради денег, а ради того редкого мгновения сопричастности чуду, которое дарит одно лишь творчество.
Итак, вот оно! Сейчас должно свершиться. Она заметно волновалась. Главное, ничего не перепутать и ни о чем не забыть. Ее роль невелика, но важна и даже окончательна. Именно ей предстоит поставить точку в целом году восхитительных искушений, которым подвергались женщины ее города, всем этим адюльтерам, первым влюбленностям и последним угасаниям чувств, превращениям неживой плоти вживую и наоборот. Было от чего занервничать. Меньше всего ей хотелось бы подвести кого-нибудь из команды.
Но была ведь и еще причина, ее личная, почему она должна была, просто обязана оказаться на высоте – эта парочка, сидящая сейчас рядом с ней и разыгрывающая свою, как они думали, бесподобную и остроумную партию. Что ж, держитесь! И смотрите не улетите под напором моих труб и того милого пустячка, что развеет вас по воздуху, думала она, сжимая потные от волнения пальцы.
Наконец представление началось. Под негромкую музыку артист показался на сцене. Здесь он был моложе, выше ростом, хорошо сложенным, сияющим внутренним светом, страстью в каждом движении, азартом покорять. Короче, он опять стал собой и превратился так естественно, так без потерь, из немца Хофмана в грациозное и опасное животное, в Арлекина.
Кожаные обтягивающие штаны, белая свободная рубашка, которую он потом сбросил, обнажив прекрасный торс (и почему в гримерке он показался ей щуплым), скорее жилистый, чем накачанный, но весь поигрывающий, влекущий, плотски живой, абсолютно босой и без головного убора или ремня или галстука, таким он предстал на сцене, не имея больше ничего, кроме розы. Огромной алой розы на неестественно длинном стебле.
В этом-то цветке и было все дело. Чего он только с ним не делал. Только тогда она поняла, как важно для такого артиста, как он, не иметь лица в прямом смысле этого слова. Быть серым, блеклым, невнятным, как бы смазанным на лицо, чтобы ничто не отвлекало от тела и его движений.
Ей казалось, что весь зал глухо стонет про себя. И в этот раз мужчины даже больше, чем женщины, ибо роза, которую он бесстыдно развращал на сцене, и была та самая женщина, которую вожделеет каждый мужчина с юности до седых волос, могущественная еще более от того, что здесь инстинкты облекались в высокое искусство и вполне оправдывались им.
Вдруг ритм поменялся. И вот он уже танцует с ней танго и ненавидит ее за свою слабость, и ревнует ко всем мужчинам в мире, и насилует и просит прощения и опять насилует. Ах, что это было! Вот так, наверное, когда-то играл Паганини, на единственной струне удерживая сотни людей от выдоха, в полете одной только ноты проживая долгую человеческую жизнь.
Но вот бьется что-то хрустальное, роза отринута с отвращением и яростью, и начинаются долгие поиски того, ради чего мужчины бросают женщин. Тоска, смятение, обманчивые победы и всепобеждающий обман, депрессии, слезы – здесь есть все, и залу становится трудно дышать, у многих заболела голова, а кто-то вспомнил себя и предательство и оттого затих, зажался в себе, иссяк.
– Он гений! – шепчет ее подруга хриплым от волнения голосом.
И даже у мужа глаза широко открыты, влажны, он весь внимание, напряжен и подался слегка вперед, словно боясь пропустить любую мелочь.
Она сама сидит, забыв обо всем на свете, ее уже не волнует своя история, но непередаваемо важна та другая на сцене, а финал кажется невозможным, неестественным, как в сказке, а жизнь, в которой она дышит, наоборот, реальна, так как же они пересекутся?
Но все идет своим чередом, и к розам возвращаются, их находят, если повезет даже живыми, неувядшими, чтобы отныне отдавать им свою жизнь день за днем, радуясь их свету и моля о любви. Так и он, тихо жалуясь, нашептывал ей слова любви, покорно принимая других мужчин ее жизни, ее капризы и плохое настроение, позволяя играть собой, склоняя голову перед ней, признавая ее совершенство и подчиняясь ее превосходству, и все же желая ее страстно и болезненно до самого итога.
И вот легкие пальцы уже бегут по длинному шелковистому стеблю, не замечая его шипов и своей боли, роза стремительно огибает дугу, проносится над залом и указывает куда-то прямо, абсолютно точно, уже без аллегорий. Вспышка прожектора, музыка, бьющая в лоб, барабанная дробь, как в цирке, и она в круге света, нагая и совершенно растерянная. Словно и не было никакой репетиции, истерзанная, раздавленная, а совсем не торжествующая, и черный зал вокруг, ахнувший, да так и застывший, и под конец дождь розовых лепестков, сыплющихся откуда-то сверху, ярких бабочек в столбе света, кружащих, падающих под ноги, садящихся на плечи, усыпающих все вокруг.
Еще мгновение и зал взрывается аплодисментами. И он быстро сбегает со сцены и отдает так просто розу розе, а после так же легко и бесшумно исчезает из жизни навсегда.
Овации не стихают еще долго. А дома ее ждет скандал.
– Как ты могла? Что это значит? – и сотни разных других вопросов и ответов не новых, как сама измена.
– У меня с ним ничего нет, – тихо шелестит она, сама не зная зачем. Никто, конечно, не собирается ей верить. Материальнее доказательства, чем та роза, что сейчас лежит на кровати, быть не может.
Потом звонит та, что называла себя ее подругой, в ее голосе столько злобы и зависти, что хватило бы на сотню любовниц в отставке.
– Ты, может быть, думаешь, что твой муж тебя ревнует и любит, так вот, он – со мной; ты, может быть, воображаешь, что я у него первая, так вот – не обольщайся.
И так далее все в том же духе. А скандал, как гроза, гремит по нарастающей. Дети в ужасе забились, кто куда и притихли.
– Ты – плохая мать, – следует удар, – ты и жена никудышная. Какой от тебя толк, холоднокровное бревно? Шлюха, блядь, да тебя убить мало…..
Дети уже рыдают.
И катарсис.
– Я не желаю больше жить с тобой! Пошла прочь из моего дома. Нет, лучше, я сам уйду, мне здесь все противно, а больше всех ты.
– Наорался? – это уже ее вопрос и ее очередь бить. – Я знаю, ты с моей подругой…. А до этого еще и с другими…
– Да я чувствовал заранее, что тебе на меня наплевать, и на детей наплевать и на дом.
От несправедливости у нее темнеет в глазах, но она молчит, задохнувшись, ждет продолжения, чтобы испить эту чашу до дна. Всплывают вдруг такие пустяковые обиды, но возведенные в ранг первопричин, они выглядят в глазах ссорящихся теми колоссами на глиняных ногах, что падая, погребают под собой останки семейного очага.
– Вот в прошлом году я сказался больным, чтобы не отвечать по телефону, а ты меня все равно позвала. Ты меня предала!
– А ты вовремя в жизни домой не пришел, а когда я заболела, ты и тогда не пропустил свой тренажерный зал.
– А у тебя дети вечно ходят грязные. Себе ты тряпки покупаешь регулярно, а на них и копейки потратить жаба душит.
– А ты такой занятой, что даже забыл, как мать зовут, я дарю ей на день рождения подарки.
– А твоя мать – чертова алкоголичка и чтоб я ее здесь больше не видел.
Затем на свет божий вытаскивается старье.
– Да ты меня достала своей ревностью, следишь, вынюхиваешь. Ты мне не веришь! (Вот чудеса!) Чтобы я в компании ни сказал, ты никогда не слушаешь. Ты меня не уважаешь!
И нет конца упрекам и разоблачениям. Хлопают двери и щелкают со злорадством замки.
Но все иссякает, к счастью или нет, и ссоры тоже. Обоим страшно вот так навсегда расстаться в одночасье. Следует бурное примирение и бурный же секс. И оба бьются в постели не на жизнь, а на смерть, но это все равно конец. А после пустота.
Утро, как после бури, но только не свежо, а мертво. Дети у бабушки, и дом погружен в полуболезненное забытье. Словно бы какая дымка висит повсюду.
Она – в кровати. Все вчерашнее кажется сном. Хорошее и плохое – все смазалось и странным образом переплелось в ее голове.
Вдруг телефонный звонок: «Это я. Я думаю, нам надо развестись. После того, что ты сказала…. Я буду давать деньги на детей, и квартира пусть останется у тебя – не могу же я детей выгнать на улицу, – но это все».
Она зарывается глубоко в подушки и рыдает до вечера. А вечером он приходит забрать кое-какие вещи. Он так и говорит: кое-какие. И конечно не может удержаться от комментария:
– Своей выходкой ты разрушила нашу семью.
– Никакой семьи и не было. – И это ее приговор.
Бежать за ним, умолять простить, быть выше его измен и несправедливости, проявить то, что называется женской мудростью, когда существует единственная мудрость на свете – быть счастливой! Ну, уж нет.
– Да, кстати, чтоб ты не думала, что из меня можно делать клоуна, я твоему стриптизеру накостылял, как следует.
– За что? – она прижимает руки к груди.
– Он теперь надолго запомнит, что значит русский мужик, тля немецкая.
Не в силах смотреть, как он собирает вещи, умышленно долго, по- садистки копаясь в каждой комнате, она одевается и уходит.
Ноги сами несут ее в клуб.
– Привет! – расплывается в улыбке охранник. – Я вчера видел шоу. Сменился с корешем. Клево было. Вам Хофмана? Его, по-моему, нет. Эй, Толян, ты не видел Курта сегодня? Нет? Ну, я же говорю. Он, наверное, дома. Они ж закончили. Все. Фенита. Знаете, где он живет? На Ленинском, они там квартиру снимают.
Адрес есть, но она колеблется, идти или нет? Существует Арлекин или нет? Иллюзия, все иллюзия. Вот только драка реальна, – вспоминает она и берет такси.
Кодовый замок работает, но дверь в подъезд распахнута, и это знак войти. На звонок долго никто не открывает, наконец, замок щелкает, и она видит перед собой кого-то из осветителей. Черт, забыла его имя. Вежливым жестом, отстранившись с прохода, ее приглашают войти.
– He`s over there. See him next door to the kitchen. (Он где-то там. Дверь рядом с кухней.)
Квартира в сталинском доме огромная, пятикомнатная, с потолками в три с половиной метра и коридорами, теряющимися где-то в сумеречной дали.
По голосу она находит нужную дверь. Кто-то и здесь явно ссорится.
Войдя, она видит сердитое лицо Софи.
– Hi! Damn you! (Привет! Черт бы тебя побрал.)
– Sophie! Shut up, o.k.? Glad to see you. You did your best yesterday, – это уже, кажется, ей. (Софи! Замолчи, хорошо? Рад тебя видеть. Ты была неотразима вчера.)
Вот он сидит на диване, на таком прозаическом, в дурацкий цветочек, диване, настоящий живой Арлекин. Губа рассечена, кровоподтек через всю правую часть лица, глаз заплыл. Костяшки пальцев сбиты, ладони замотаны, похоже, и ребра пострадали, судя по повязке.
– It’s my husband? It’s because of….. – замирая, спрашивает она, боясь услышать правду. (Это все мой муж? Это из-за ….)
– No, I’ve told Sophie, husbands round the world wish to kill me. It’s o.k. I’ve got used. (Нет, я же сказал Софии, мужья по всему свету мечтают разделаться со мной. Все нормально. Я привык.)
– Bull shit! It`s all her blame. (Черта с два! Это все она виновата.) – и Софи тычет пальцем в сторону несчастной героини шоу, но, не выдержав характера, улыбается.
– Say, it was super? Serge, – зовет она кого-то из соседней комнаты, – Look at him. He`s got his portion of bruises. Oh, men, I’m outraged. Really, really, outraged. They conducted as boys. (Скажи, это было классно? Взгляни-ка на Сержа. Он тоже получил свою порцию синяков. Ох уж эти мужчины! Я в ярости. Они вели себя, как мальчишки.)
На лице у Сержа просветов больше, но зато его рука в лангетке. С бутылкой пива в здоровой руке, он плюхается на диван рядом с Куртом.
– Wir haben ihre! (Мы надрали им задницы) (по-немецки)
– Что? – роза смущенно моргает.
– Oh, we gave them the finger, lady. (Мы дали им жару.)
– It`s childish, is it not? – спрашивает Софи и, усадив, наконец, гостью, выскакивает за чем-то на кухню. (Ну разве, они не дети?)
– You said theу… how many were they? – Решается спросить роза, после паузы. (Вы сказали они….. Сколько же их было?)
– Three or four…. I didn’t see… and you… Kurt… did you count them? – счастливо смеется Серж, закидывая загипсованную руку на диванные подушки. – Kurt got more than me. (Трое или четверо. Я не видел… а ты, Курт, ты их считал? Курту досталось больше, чем мне.)
– It’s o.k. I used to be young, once long ago, – и он попытался улыбнуться. (Ничего. Я тоже был молод. Когда-то очень давно.)
С этой улыбки, как она потом вспоминала, все и началось. Где же она могла видеть этот задиристый блеск в глазах, прихотливый изгиб губ, морщившихся от боли, слышать этот мягкий голос такого приятного тембра, спокойствие и уверенность во всех движениях, и запах …. Что это за парфюм? Да ведь это же он, ее Арлекин! Или нет? Что за черт, так он реален или ….?
Еще не осознавая, что делает, она быстро сказала, очень быстро, гораздо быстрее, чем надо, словно боясь, что ее прервут и, глядя прямо в его светлые глаза:
– Marry me. Merry me, please. (Женитесь на мне. Женитесь на мне, пожалуйста.)
Эпилог
Маленький частный домик где-то в Германии.
– Знаете, малышня, я уже сто раз вам рассказывал, как познакомился с вашей мамочкой, а вы все туда же, – говорил, сидя на ступенях в окружении детворы, пожилой мужчина, со спиной прямой, несмотря на его возраст, – так вот она сказала, женись на мне, а я, не будь дураком, и согласился. Я уже давно подумывал покончить со своей кочевой жизнью и открыть в родном городе танцевальную студию. Мне было уже за сорок. Чем соблазнять женщин по всему свету, не лучше ли сыграть счастливый спектакль для одной своей фрау? Я выступал во многих странах, видел много людей, имел успех, но вашу маму я считаю самой главной удачей в своей жизни.
Духота семейных квартир
Отрадин лениво пробирался по вокзалу со спортивной сумкой через плечо, медленно расталкивая людей и бросая угрюмые взгляды на иных особенно рьяных пассажиров.
Курортный сезон еще только набирал свои обороты. В Москве стояли теплые июньские денечки, и столичные жители потягивались сладостно, вспоминая о ласковом море, шашлыках на набережной и легком необременительном флирте. Иные уже разминали члены на низком старте, готовые к новому отпускному марафону, но еще не настолько активно, чтобы начать в бешеной свалке скупать все билеты, на все виды транспорта с единой целью – вырваться наконец из опостылевшего за долгую зиму мегаполиса.
Отрадину было абсолютно все равно, куда ехать, и в последний момент он решил, что поедет в Сочи. На работе ему посоветовали пригородный отель и выдали отпускные в довольно приличной сумме, которые он намеревался спустить все, до единой копейки. Что поделать, если человеку, с которого еще не вполне выветрился тюремный запах, решительно не с кем было отдохнуть у моря. Хотя, ясное дело, он надеялся развлечься.
У него была довольно грубая внешность, крупные черты лица, железная мускулатура, скрытая ярким спортивным костюмом, а главное, выработанный с юности во имя спасения, скептический взгляд на вещи. Он родился, как это обычно и бывает у людей подобной биографии, в так называемой, неблагополучной семье с отцом-алкоголиком и матерью, которой некогда было уделять сыну ни времени, ни любви. Находясь в вечных разъездах, она редко бывала дома, а приезжая, старалась не задерживаться надолго. Сына естественно лупила.
Учился Лешка хуже среднего, слыл первым хулиганом, ненавидел, когда много говорят, не принимал ничьих установленных правил, кроме своих, и не имел никаких талантов, разве что некоторые врожденные актерские способности, которые по странной случайности были замечены и употреблены в дело школьных спектаклей.
Театр помог ему выжить, не спиться, как многие его ровесники, имеющие даже и более ответственных родителей, и не связаться с дурной компанией всерьез, чтобы сразу после школы угодить за решетку. Два года в драматическом кружке он вспоминал, как лучшее время в своей жизни.
В армии он увлекся спортом, получил первый разряд, но на гражданке спортивные достижения сослужили ему, как ни печально, плохую службу. Его бицепсы, могучая челюсть, сломанный нос были оценены по достоинству и применены в дело неким криминальным авторитетом, который в результате происходящих в стране революционных перемен, вытянул, в конце концов, не счастливый билетик депутатской неприкосновенности, а черную метку солнцевской братвы, а заодно с ним, кто пулю, а кто нары получили и все его подельники.
Отрадин загремел на пять лет.
Когда он вышел, его как оторванный листок швыряло из одной крайности в другую вместе с большей частью активного населения страны в те годы. Долгое время он осваивал китайский рынок и, нагрузившись под подбородок полосатыми сиреневыми тюками, вместе с другими такими же ходоками трясся Христа ради в поездных тамбурах и багажных отделениях самолетов, минуя семь часовых поясов. Поднакопив деньжат, увлекся было созданием собственного бизнеса, и погорел. Начал сначала и снова погорел, разоренный на сей раз не собственной экономической безграмотностью, а государством и его махинациями с деньгами. Никак не из любви к учебе, а только ради получения бумажки, закончив заочно институт, он, наконец, неплохо устроился у бывших дружков на фирме, купил даже загородный коттедж и BMW – самую крутую тачку по тем временам, а потом снова сел, уже за экономические преступления. Мир переменился пока он сидел, Алексей Отрадин остался прежним.
Он выбрал Сочи, потому что это был единственный город, в котором он когда-то отдыхал и где провел пять незабываемых развеселых денечков в бытность свою директором одной подставной оффшорной фирмы.
В вокзальной духоте он нехотя перелезал через цыганские тюки и сумки вездесущих вьетнамцев, равнодушно глядел на толстых усталых женщин в платках с корзинами и тележками, набитыми до отказа всякой всячиной. Он жалел, что выбрал поезд, а не самолет. Его уже тошнило от суеты, снующих туда-сюда людей и разлитого в пространстве ожидания.
Голос в динамике объявил прибытие скорого из Ельца. От подошедшего поезда пахнуло яблочными пирогами, запах разнесло по всем платформам, и он зверски защекотал носы голодных пассажиров, повеял дальней дорогой, встречами и разлуками, заставил их вскочить в нетерпении и рвануться на посадку, побросав в спешке жен, ревущих детей и вещи.
Подхваченный толпой, Отрадин отправился на поиски своего состава. Мимо, держа тюки даже в зубах, повесив тяжелые сумки на шею, торопились потные люди. Все они боялись, что поезд уйдет без них, хотя до отправления было еще далеко.
Впереди Отрадина, зажатая другими пассажирами, шла девушка в узкой юбке и кофте на бретельках. Неся в руках увесистый чемодан и сумку, она с трудом удерживала равновесии, балансируя на высоких каблуках. Тяжелая ноша не позволяла ей идти вровень с общей массой, поэтому ее беспрерывно толкали.
Отрадин пристроился за ней и некоторое время с отстраненным интересом наблюдал терзания незадачливой дурехи. Он заметил синюю жилку, вздувшуюся на шее, худенькие напрягшиеся руки и тонкие красные от натуги пальцы, вцепившиеся в ручку чемодана, и ему вдруг стало досадно чего-то. Поэтому он протянул руку и взял ее вещи.
– Вы бы еще ходули надели, – нехотя и грубо проворчал он в ответ на удивленный, торопливо брошенный, взгляд огромных карих глаз.
Пылающие щеки, лоб покрытый бусинками пота и приоткрывшийся от удивления рот юной пассажирки – все раздражало Отрадина. Он не любил собственного великодушия и не верил, что кто-то может быть за него благодарен, поэтому, едва взявшись за чемодан, он уже пожалел, что поддался мимолетному порыву.
– Спасибо, – услышал он, – девятый вагон, пожалуйста.
Это меняло дело. У него тоже был девятый. Оказалось, что они ехали в одном купе.
Отрадин закинул вещи на третью полку и устало опустился на пыльное сидение.
Вагон был грязным. Сквозь немытые стекла небо казалось загорелым. Рыжий надорванный кем-то оконный тент никак не желал подниматься, и его с большим трудом удалось поставить на место. Крахмальные занавески на проволоке глупо топорщились в разные стороны, а пол, покрытый трехнедельным слоем пыли, навевал воспоминания о тюремном лазарете, где Отрадин провалялся месяц с подозрением на туберкулез.
Новая знакомая оттерла пот со лба и хозяйским взглядом окинула нежилое купе.
– И здесь нам предстоит жить больше суток, – вздохнула она и откуда-то из бокового кармана сумки достала влажные салфетки. Умело и быстро протерла залатанные дерматиновые сиденья, обшарпанный столик, с щербатыми от пивных крышек краями и ту сторону окна, что была ей доступна.
Отрадин подивился такой предусмотрительности, самому ему и в голову бы не пришло что-либо менять.
В грязном окне мелькали тени других пассажиров и провожающих их чад и домочадцев, доносились голоса, смех и ругань – куда без нее. Неожиданно под потолком включилось радио и загорланило модный мотивчик, плавно перешедший в «Славянку».
– Тута что ли мое место? – неожиданно услышал Отрадин как раз в тот момент, когда впереди забрезжила надежда на приятное путешествие в обществе одной только молоденькой попутчицы.
Но его мечтам, увы, не суждено было исполниться. В купе ввалилась толстуха с узлами и огромной хозяйственной сумкой, заменяющей ей чемодан.
Женщина была точь в точь такая, каких на вокзале, наверное, сотни, есть даже целый отдельный класс подобных пассажирок, путешествующих по всем направлениям нашей необъятной родины. Они везде одинаковы – и на Дальнем Востоке выглядят и пахнут точно так же, как в Калининградской области.
Грузно вздохнув, она скинула все вещи на полку и уселась сама, расставив ноги и расстегнув трикотажную синтетическую кофту до самого лифчика.
Сразу следом за теткой появился худощавый пожилой мужчина с портфелем, явно командировочный. Холодно поприветствовав присутствующих, он снял куртку, и, протиснувшись к окну, замахал жене, пытаясь что-то втолковать ей через закрытое окно.
Тетка взглянула на него с подозрением, и, обведя глазами присутствующих, занятых своими делами, достала из-за пазухи грязный платок, зашпиленный булавками, вытерла им пот с шеи и засунула обратно.
Поезд, наконец, тронулся. Все замахали, закричали последнее «прощай». Пока вагоны тащились вдоль платформы, духота от напряжения стала невыносимой. Наконец вокзал остался позади, началась новая жизнь и все сразу почувствовали это.
Проводники выполняли свои обязанности по проверке билетов, кричали на беспризорных пассажиров, не успевших вовремя в свой вагон и обезумевших от суматохи, а дети уже ныли, просясь в туалет.
Началось мерное существование под стук колес.
Отрадин снял ветровку и, чтобы не мешаться в общей тесноте, залез на верхнюю полку. Внизу копошились люди. Командировочный тут же развернул молчаливую кампанию за привилегии и права пассажиров, появившись в дверях купе с желтым постельным бельем под мышкой. Тетка ахнула и, отодвинув довольного попутчика с порога, кинула свою внушительную фигуру в бой с проводниками.
Пока все стелились, Отрадин молча наблюдал свои кроссовки. Тетка, вздохнув, опустилась на тканевое покрывало и принялась вытаскивать из толстой сумки туалетные принадлежности и съестное, тут же разложив его на столе. После чего, в результате ее манипуляций, на нем не уместилась бы и коробка спичек.
– Сынок, шел бы ты за бельем, – сказала она Отрадину, откупоривая об стол бутылку кока-колы.
– Успею…, – он, наконец, спрыгнул вниз.
В тесном, шатающемся коридоре было прохладно. В наступающих сумерках колыхалась белая занавеска. Отрадин выглянул в окно. Состав поворачивал, растянувшись по насыпи. За стеклом мелькали живописные картины Московской области.
Под потолком зажглись мутные желтые лампы. Мимо Отрадина деловито прошествовала проводница, дежурно улыбнувшись.
В купе он вернулся со своей долей сырого серого белья в плотно закупоренном целлофане. И свежим умытым лицом.
Девушка лениво жевала помидор, глядя в окно, чего не скажешь о тетке – эта ела с воодушевлением.
Командировочный уже давно угнездился у себя наверху, силясь в потемках разглядеть газету – ночник над его полкой не работал.



