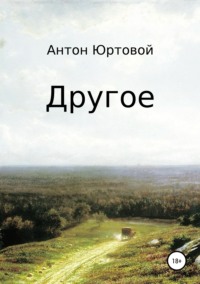полная версия
полная версияПодкова на счастье
Одно из таких обстоятельств было связано с голодомором, – он «ухватил» меня сразу при моём рождении, вследствие чего я переболел рахитом и внешне, со своей необратимой тогдашней худобой и хиленьким тельцем, выглядел, видимо, как запаздывающий с развитием и склонный к медлительности. При этом моё душевное состояние не могло отличаться особой бодростью и оптимизмом, и оно, разумеется, не могло не замечаться всеми, кто видел меня не один раз или только однажды и тем более, если знал меня ближе. Как и в отношении других к себе, так и в отношении своих личных чувств и состояния я имел своё понятие, и оно, естественно, во многом не удовлетворяло меня, как побуждавшее меня к малополезной рефлексии, малополезной в том смысле, что ею облекался мой совсем пока крохотный жизненный опыт, – выйти с ним на какие-либо утверждающие начала оказывалось не так просто или даже вовсе невозможным. О чём-то же связанном с амбициями, требующими энергической воли и настойчивости, даже говорить было пока нельзя.
Что при этом я мог значить сам по себе, мне приходилось определять по тому месту, в котором я каждый раз оказывался в играх или в общительности: не говоря уж о взрослых, даже дети считали нужным относиться ко мне с определённой долей жалости и соучастия, уступая мне в моих просьбах или в ситуациях и предоставляя мне возможность быть самостоятельным, если такой моей самостоятельностью не до конца повергалась их неуёмная манера быть нетерпеливыми, непосредственными, непоседливыми, а то и дерзкими, бесшабашными, непослушными, порой даже мстительными, как то вообще присуще детям, где бы они ни жили или находились.
Обо всём этом я, кажется, задумывался и уже, может быть, почти всерьёз при самом начале осознаваемого выроста; для меня было настоящим открытием то, что, будучи в чём-нибудь повинен, я не наказывался так резко и неотвратимо, как наказывались другие, а часто не наказывался и совсем. Обходила меня и ребячья месть, и это могло происходить опять по той же причине хорошо замечаемой со стороны как внешней, так и внутренней слабости и болезненности моего организма ввиду того самого голодомора. Это драматичное массовое событие, много позже возведённое в степень политического рассмотрения прошлого общественной жизни, коснулось меня в возрасте до пяти лет, когда местом моего жительства была Малоро́ссия, та её захолустная часть повдоль реки Псёл, одного из наиболее протяжённых левобережных притоков Днепра, людей и природу которой великолепным слогом запечатлел в своих ранних произведениях писатель Гоголь. Воспоминания о той поре удерживаются во мне исключительно как некая сквозная, плавающая иллюзия. Не помнится ничего существенного, что бы я мог пересказать как происходившее фактически, в конкретной обстановке или с участием действительных лиц.
Единственное, о чём я мог бы говорить сейчас, – это об эпизоде со мною, случившемся в саду, под деревом, когда сорвавшаяся сверху большая, уже налившаяся, но ещё недоспелая груша упала своей твёрдой переломленной плодоножкой мне прямиком на́ голову, так что я взвыл от боли и долго ревел, и все, кто находился поблизости, долго возились со мной, успокаивая меня.
Как и прочие мелкие события моей тогдашней жизни, этот эпизод забылся бы, наверное, навсегда, и он ничего особенного не мог бы для меня значить после, если бы то злосчастное гру́шевое дерево не росло на хуторе, в названии которого корневым было слово «груша» и он, этот населённый пункт, обозначен как место моего рождения в моём гражданском паспорте.
Применяясь к этому его значению, я и сейчас будто вьяве ощущаю себя игриво и смело-неосмотрительно бегающим поблизости от дома по саду, в преддверии осени, когда было достаточно лёгкого дуновения ветерка, чтобы склонный быстрее других сорваться с ветки плод полетел вниз.
Чтение гоголевских строк как бы уже хотя и искусственно возвращает меня в ту прошлую атмосферу пряной хуторской действительности, и мне она представляется теперь не иначе как чрезвычайно волнующей и полной жизни, в изумительном очаровании пахнущего созревающими плодами дневного воздуха, мягкого, свежего, как бы только слегка подвяленного, податливого, пружинистого лиственного покрова под моими босыми, но уже привыкшими к таким прогулкам и, стало быть, неизнеженными ножками, ласкового, тёплого солнечного лучевого света и необъятного голубого небесного купола над бедственным поселением, где, не утерпев, я уже, возможно, успел попробовать самим найденной в саду груши того конкретного сезона или дня, пусть и небольшой, созревшей пока, может быть, лишь какой-то её незначительной частью, каким-то одним боком или даже – с гнильцой, но незабываемой по вкусу и запаху, взвихрившими мой неутолявшийся аппетит, испотрошённый постоянным предыдущим голодом и недоеданием, от которых я мог бы так же обыденно, почти на ходу, в любой момент умереть, как это происходило тогда со многими на нашем хуторе…
Другое обстоятельство, ввиду которого резко во мне обозначилось ограниченное для точного восприятия, утяжелённое и как бы запертое внутри, последовало вскоре, за тысячи километров от Малоро́ссии, в дальневосточной деревеньке, о которой я уже кое-что сказал в начале, куда вынуждены были переселиться мои родители в преддверии Великой отечественной войны по особой правительственной акции, взяв, разумеется, с собою и нас, четверых своих детей, при ещё двух умерших от голода, рассчитывая таким образом обеспечить оставшимся хотя бы какое сносное выживание.
На новом месте это была вторая для нас весенняя вспашка выделенного нам внушительного по площади семейного огорода, для проведения которой местный колхоз отрядил лошадку с плугом, а также своего работника. Помню, что тот человек возрастом лет пятидесяти был сухощав, довольно опрятен и почти весел, легко и мастерски управлялся с порученной работой, и он-то согласился уважить просьбу кого-то из нашей семьи, а на самом деле – мою (с нею я прямо-таки «доставал» родителей), позволить мне поприсутствовать на вспашке, дабы я начинал уже с этого времени кое-что понимать в крестьянском деле.
Я босым бегал рядом с пахарем, стойко перенося покалывания ступней сухими комьями земли и остатками прошлогодней растительности и жадно разглядывая свежие, ещё поблескивавшие накопленною от снегов и первых после зимы дождей влагою, вывороченные земляные отвалы, на поверхности которых, а также и в борозде извивались потревоженные лемехом черви и ползали какие-то насекомые, обитавшие в земле и озадаченные, совершенно неожиданно оказавшись в одной компании под дневным светом.
Разные птицы, среди которых преобладали числом воро́ны и сороки, моментально подлетали к только что вывороченному пласту, видимо, уже издалека присматривая и на́скоро, жадно склёвывая появлявшееся словно из ниоткуда изобильное для них лакомство. Воро́ны и сороки были крупнее прочих птах, и это обеспечивало им преимущество в поедании червяков и насекомых; более же мелким приходилось осторожничать и держаться позади и сбоку от них, там, где вспаханный массив оказывался уже основательно обобранным смешанной стаею и где найти добычу становилось гораздо труднее; общей и практически одинаковой по тональности была их скученная шумливость, соединявшая отчаянное сердитое ворчание, не допускавшее стороннего посягательства на облюбованный предмет лакомства, резкие звуки их частого и беспорядочного вспархивания с характерным трепетанием крыльевых оперений и – досадливая, беспокойная перекличка тех, кто ещё только кружил над пашней и готовился присоединиться к пиршеству.
Отдельным птицам удавалось склёвывать жертвы на отвале, только что появлявшемся из-под лемеха, то есть они проделывали свои манипуляции уже совсем близко к работающему, управлявшемуся с плугом и лошадёнкой пахарю, временами едва не задевая его крыльями за плечо или за козырёк засаленного, сильно изношенного кепи, что, само собой, было ему хотя и небольшой, но помехой и не могло не вызывать соответствующей его реакции. Пахарь энергично взмахивал одной из рук, державших и направлявших плуг и одновременно вожжу, показывая неодобрение действиями пернатых также и на своём сосредоточенном работою лице, а то и пугал их голосом, вставляя в обращения к расшалившейся птичьей братии резкие и даже матерные слова.
Желая быть солидарным с ним, я наведался в кусты, выступавшие по краю близкого к грядкам, заброшенного сада, также нашего, семейного, предоставленного колхозом на одной усадьбе вместе с пахотною землёю, сломал там прутик и, вернувшись, довольный, показал его пахарю. Он с ласковою усмешкой кивнул мне, утверждая этим дозволенность моим намерениям, и я принялся помахивать им, стараясь не допустить птах на место, где им следовало быть хотя бы на чуток позже и подалее.
Между тем коняжка, а это была уже довольно остарелая, тощая пегая кобылица, выказывала усталость, пошатываясь и напряжённо, сбивчиво, невпопад переставляя как передние, так и задние тонкие свои ноги; по крупу и по бокам её, хотя они и не лоснились от пота, поскольку тот сразу высыхал ввиду задувавшего довольно прохладного ветра, можно было заметить, как разгорячено́ всё её туловище.
Это было следствием напряжённой работы, а более всего – скудной зимней кормёжки. Лошадёнка часто фыркала; на ней повсюду искрами пробегали подрагивания мускулов.
Ранее пахарь уже дважды ненадолго останавливал её, давая ей возможность передохнуть, и подпаивал её водою, припасённою загодя в большом ведре. Сам же он скручивал цигарку на самосаде, который держал в кисете, и закуривал её, делая глубокие торопливые затяжки.
Я жалел скотинку и сочувствовал ей, подходя к ней в перерывах спереди, чтобы погладить ладошкой по короткой, шелковистой на ощупь шерсти на её морде, сначала под присмотром и с разрешения работника, а потом и без его разрешения, с интересом заглядывая в её вдумчивые, тронутые какой-то неубывающею печалью глаза и смело подставляясь под её учащённое, беззлобное дыхание, исходившее из её широко раскрытых и находившихся в постоянном движении, влажных ноздрей.
При моих прикосновениях она, осторожничая, чуть-чуть вздёргивала головой, а из ноздрей выпускала воздух более резко, чем обычно, с характерным трубочным звучанием, после чего слегка покачивала головою и даже позволяла себе наклоняться ею ко мне, и тогда начинала мотаться её нависавшая сверху чёлка, так что я мог дотянуться своей ручонкой и до её края и потрогать её.
Это любопытное поведение животного показывало, что заботу и ласку хотя бы и от маленького человека оно принимает охотно и с благодарностью, ценит такую заботу и готово быть по-настоящему снисходительным к любому к себе прикосновению, что вызывало во мне чувство восхищения, радости и даже гордости, поскольку всё вместе взятое я мог воспринимать как проявление серьёзного ко мне доверия, так необходимого в детском возрасте.
Когда, понукнув на неё и дёрнув вожжой, оратай в очередной раз прервал короткий перерыв и сосредоточился на своём занятии, я обратил внимание на то, что теперь он понукает коняжку всё чаще и повелительнее, хотя до окончания вспашки грядок было уже не так далеко. Он зачем-то торопился. Надеясь поспособствовать, я вслед за его понуканиями, не забывая о птицах, принялся потрагивать прутиком лошадёнку, тем самым как бы обязывая её быть постарательнее.
Несколько раз я слегка постегал её по боку, и, как мне показалось, у неё в самом деле прибыло прыти. Это подвигло меня на более решительное действие. Я размахнулся и ударил внахлёст, а в какой-то момент пощекотал кончиком прутика где-то возле паха, для чего приблизился к труженице на недопустимо близкое расстояние, ввиду чего налёг и на постромку, и, конечно, тем смутил даже плугаря.
Он успел накричать на меня; лошадёнка же озадаченно вздёрнулась и резко, почти прицельно лягнула меня той задней ногою, к которой я был ближе…
Об остальном, что произошло в тот момент, в моём сознании не осталось ничего. Только на какие-то секунды я пришёл в себя, когда меня уже в наступавших сумерках поднимали от железнодорожной насыпи в вагон остановленного авральным образом на неположенном для остановки прогоне товарного поезда, следовавшего в сторону райцентра.
Кто-то здесь суетился, высказывая советы, как сноровистее поднять меня высоко наверх, в широко открытую дверь вагона, куда не было ступенек, жёстко шевеля обувью щебёнку под ногами. Кричал паровозный гудок, напоминая о задержке, заставляя поторопиться с погрузкой.
Невыносимая тупая боль поверх головы тут же снова опрокинула меня в забытье, куда меня отправила возмездным ударом своего копытца добрейшая лошадёнка. Там я пробыл немеренно долгое время.
Память не сохранила ни одного мгновения не только моего пребывания в больнице, но и по возвращении оттуда домой. Больше того: она упрятала в себе насовсем целое течение времени, какое протащилось до поры, когда, уже находясь долго дома, я, хотя и урывками, начал смутно осознавать свое злосчастное существование и пока не оставлявшее меня тяжёлое недомогание.
Как уж вышло, что при ударе я остался жив и как смогли удержать во мне жизнь лекари из райцентра, имея дело с фактом грубого покалечения моего черепа, – это, будем говорить, что-то из области невозможного, во что мне не верится до сих пор.
С той далёкой поры ношу на своём темени шрам в виде полукружия, частично воспроизводящий след, оставленный при ударе. При случае даю посмотреть на него врачам и знакомым. Домашние и родственники знают о нём даже в подробностях, которые я здесь привожу. Позволяю себе обратить внимание на оставленный след в том несколько занимательном и вроде как ироничном смысле, что сделанная на мне отметина – неспроста. Она как бы мне в охранение и в подмогу, своеобразная подкова на счастье. Не хочу отказываться от такого обозначения, тем более, если связывать счастье не с чем-то заоблачным и закрывающим все наши проблемы, а – более нам близком, осязаемом, что ли, наподобие того, что приходит к нам по простому везению или при совпадении с нашими, даже совершенно иногда скромными ожиданиями и надеждами…
Я склонен довольствоваться этой второй частью смысла указанного обозначения, поскольку в его пределах, как я убеждался, не исключались моменты или факторы, которые на отдельных этапах моей жизни были для меня в самом деле благоприятными или даже благотворными.
Здесь я говорю о довольствовании хотя и малым, не сулящим больших успехов, но таким, когда и небольшие удача или успех приводят к определённой остойчивости собственного положения и созвучны образу жизни на началах личностного достоинства и полнейшей искренности, – без претензий на какое-то возвышение, в том числе – над кем-либо, когда пришлось бы иметь дело не только с укорами окружающих, но и со своей притаившейся, постоянно ожидающей промахов совестью…
В своих дальнейших откровениях я предполагаю назвать отдельные, наиболее важные для меня случаи, когда я мог соизмерять приходящее ко мне пусть и не с идеальным счастьем, но, по крайней мере, оно служило мне хотя бы временной более-менее твёрдой опорой в чём-то существенном, как бы само собою смыкаясь позже с тем, что его дополняло и опять же становилось мне к удовлетворению и к пользе…
То было такое время, когда потеря кого-либо в семье воспринималась хотя и в горести, с тяжёлыми, надры́вными стенаниями, но тем не менее и стоически, выдержанно, как явление, часто повторяемое, обычное для всех. Семьи были, как правило, многодетными, чему способствовали преследования по закону за прерывание беременности и избавление от плода, а также – полнейшее отсутствие контрацептивов.
Детская медицина, как, впрочем, и «взрослая», только ещё поднималась и то лишь на городском уровне и в райцентрах. В сёла она приходила с опозданием; в моём селе она появилась, когда мне было лет одиннадцать, и собой она представляла всего лишь скромный фельдшерский пункт в одной, ранее долго пустовавшей жилой избе, занимая там крошечную комнатку, где заведующей и одновременно работницей была единственная молоденькая медсестра, только что из училища, без врача.
При постоянной нужде в полноценной пище, скученности в тесных маленьких избах болезни могли оборачиваться для детей как угодно плохо. Многие умирали. То есть – выживали более крепкие. Уродцы вообще не имели шанса на выживание, и только некая удача ввиду особенности организма позволяла иным из них оставаться в жизни, сполна испытывая в ней все горести, достававшиеся на их долю.
Здесь я мог бы сказать также и о том, что детвора в то время, несмотря на существенные потери в её рядах, была и по-особенному прочна здоровьем; – обычным считалось переносить или превозмогать болезни, оставаясь вне услуг медицины. Ребятню могли поражать глисты, заводившиеся в кишечнике, корь, дистрофия, желтуха, лишаи, туберкулёз, но противодействия им никто не искал и не знал.
Что же до такой напасти как простуда, – по её поводу в общи́не как-то не было принято даже огорчаться, выражать какие-то опасения; ей попросту не придавалось какой-либо значимости. Шмы́гает малец носом, ну и что же, пускай шмы́гает; никто не поторопится подать ему платок или какой-то клочок ткани, чтобы утереть накопленное: управляйся, как хочешь, сам. Мол, подрастёшь – «исправишься».
Точно таким же было отношение к поранкам и ушибам. Чаще всего они появлялись на ногах, поскольку с момента, когда весной дотаивал снег, и до нового снега осенью
обувки никто из ребят не носил, её не было и в продаже, а напастись ею в домашних условиях тоже было проблематично, и, например, прокол ступни каким-нибудь ржавым гвоздём в крайнем случае перевяжут, предварительно смазав слюною самого пострадавшего или приложив к больному месту измятый до состояния сырой кашицы лист подорожника или – промазав его соком сорванного поблизости чистотела.
О таких же заболеваниях как аллергия никто и не знал. В наши теперешние дни ей особенно подвержены горожане, не привыкшие к частым выездам на природу.
Сельский житель ощущает воздействие природы с её пыльцой и разнообразными запахами уже непосредственно в своём жилище, с появлением на свет приобретая соответствующий иммунитет. Также практически не было ничего слышно о таком повальном явлении как грипп. Никаких постельных режимов не предусматривалось, так что у болеющих ребят оставалась возможность быть как все сверстники, как бы ничем и не отличаться в своей среде. Вмешательство медицины сводилось лишь к тому, чтобы предотвратить эпидемии грозных заболеваний вроде холеры или оспы. Прививка от них была единственной услугой со стороны сельского фельдшерского пункта, а до его открытия её оказывали местному населению приезжие лекари.
Увечье при вспахивании огорода приводило меня в состояние крайнего изнеможения, когда мало что воспринимаешь из окружающего внешнего, а больше сосредоточен на внутреннем, да и то если бодрствуешь, а не находишься в забытье, которое длилось иногда целыми часами.
При таком тяжёлом состоянии важное значение имеет свойство избирательности в чувственном и в сознании, когда они как бы угождают тебе, оттесняя второстепенное и укрепляясь в том, что для тебя важнее.
Соответственно этому приходит понимание своего поведения в пределах тех наставлений, какие уже усвоены и должны выражаться в виде обязанности и долга. Надо быть послушным, не делать ничего такого, что может вызывать нарекание от кого-либо. Вести себя неприхотливо, не капризничать.
Я замечал, что мне не составляет труда подчиняться этим требованиям и что в этом я преуспеваю, может быть, значительно больше здоровых детей. Те имеют корыстные побуждения к своеволию, ту важную особенность их строптивости и отчётливого возрастного неприятия даже некоторых добрых наставлений, когда и в своём ребячьем кругу они не расстаются со своей заносчивостью и готовы в любой момент заклеймить позором сверстника, если он не придерживается их восприятий вынужденной подчинённости, понимаемой на свой категоричный лад или как безволие, или, хуже того, как желание определённой выгоды для себя, – собственно, того же, чем бывают одержимы сами.
Отклонения во мне не могли не замечаться взрослыми, прежде всего моими родителями, постоянно, как и в других семьях, озабоченными детским непослушанием. Они могли надеяться, что я в отличие от других детей, своих или чужих, склонен быть покладистее и, как имеющий своё понимание обязательства, не отрину даваемых мне наставлений.
Представился случай, довольно мрачный по общим понятиям, когда однажды, в летнюю пору, в избе я оставался один, а мать, уходя последней, перевязала меня в
поясе бечёвкой и сзади прикрепила бечёвку к гвоздю в сенях, высоко на стене, так что я дотянуться туда не мог и при открытой двери в избу размещался почти у самого порога перед крыльцом, выйти же не мог даже на него. Оставалось только единственное – сидеть на полу.
Мне было сказано, что это ненадолго, кто-то из своих должен скоро быть и отвяжет меня, а пока мне надлежит находиться в таком положении и не пытаться освободиться: там, во дворе, который начинался от крыльца и куда с улицы вход прикрывался лишь шаткою калиткой, вполне вероятно, могут оказаться чужая свинья, чужие собаки, бодливый бычок, – с ними встречи небезопасны.
На вопрос матери, понятно ли мне правило моего поведения в одиночестве, я сказал, что да, понятно, и с тем она ушла, правда тут же накоротке вернулась, зазвав ко мне нашего пёсика; он ко мне всегда оживлённо ластился и при свидании норовил непременно облизать мне лицо, давая тут же себя сколько угодно гладить. Пёсику это нравилось; он долго не уходил, что было по душе и мне.
Наше с ним общение было на этот раз неожиданно скоро прервано. Мой дружок резко вспрыгнул и сиганул с крыльца; в стороне от него, за пределами моей видимости, послышался злобный его лай, адресованный непрошенному бродячему гостю, а тот, в свою очередь, также громко и злобно лаял и шумно щерился. Последовала обоюдная их сцепка-грызня, с тяжёлым, спёртым обоюдным дыханием, взвизгиваниями и скулежо́м, и только изрядно искусав друг друга, они наконец расстались, продолжая ещё долго тявкать вдалеке один от другого, что как и в начале обозначало несовпадение их интересов, одного – как хозяина двора, а другого – как якобы также не лишённого права забредать сюда когда ему вздумается.
Моего пёсика теперь общение со мной не прельщало. Он, как я мог догадываться, выбрав себе место у невидимой мне стены избы, поудобнее, принялся́ зализывать кровоточащие поранки и приводить в порядок взбившиеся в драке пучки своей шерсти. На мой зов он не откликался.
Не было видно и нашего кота, любившего погреться на солнышке у самого порога; с ним у меня также была теснейшая дружба, но встречаться мы с ним предпочитали на печи́, особенно в холодной время года, когда она отапливалась получше и мы, улёгшись там, оба блаженствовали, – я – изобильно его поглаживая, а он – одаривая меня своим мягким теплом и не переставая мурлыкать, пока эта идиллия не уводила нас в сон, во всё время которого мы так и продолжали оставаться вместе, до моего пробуждения.
Было бы кстати пообщаться с ним теперь, но он где-то шастал по своим делам, так что мне пришлось коротать свою, утомлявшую меня при́вязь одному.
Сидя на полу в сеня́х, я на какое-то время забылся, и это могло занять по меньшей мере около двух часов; никто так и не приходил, и единственное, чем я мог утешиться, так это размышлением над самим собой, тем, что, как я знал, более всего мне удавалось именно в то время, когда я выходил из состояния забытья и, ничего о нём, этом состоянии, не помня, возвращался к осознанию своей чувственности.
Да, говорил я себе, ущемляя мою свободу, со мною обходятся плохо, несправедливо. Но, с другой стороны, так же следовало бы мне укорачивать её, будь я не привязан. За чем-нибудь спускаться с крыльца – была ли в том большая необходимость, если на дворе, действительно могли появиться опасные для меня свин или бычок с уже выступавшими у него на лбу рожками, а мой любезный пёсик вряд ли бы смог защитить меня, если бы те вознамерились надвинуться на меня? Там же бегают куры и при них задорный и подозрительный в амбициях, орущий о своей власти великан-петушина.
Не вздумает ли он, видя себя охранителем курочек, клюнуть меня, что, я знаю, – очень больно…
В сторону матери также находились нужные и вроде как безупречные соображения. Ну, немного обидно за своё такое вот заключение. Но у неё, рядовой колхозной работницы, верно, всё складывалось таким образом, что по-другому она поступить со мной просто не могла. Я не должен её подвести, дав ей обещание. Не должен и обижаться. Много раз она позволяла мне выбираться из избы во двор или даже на улицу под присмотром, своим или кого-то, кого просила об этом.
Разве для меня будет что-нибудь потеряно ввиду при́вязи, раз она необходима?
Совсем будто бы неопасно заглянуть в заброшенный сад или на грядки, подступавшие прямо к дому, где уже в два человеческих роста, на конском перегное, вынесло вверх стебли кукурузы с мощными початками на них и полно другой растительности; но ведь все в семье знают, что одному мне прогуливаться пока противопоказано, где бы то ни было, – вдруг случится со мной обморок, потеря памяти, я упаду, что тогда со мной может быть? Где искать меня? И не обернётся ли моё отсутствие ещё большим недомоганием? Нет, мать я упрекать ни в чём не имел права…