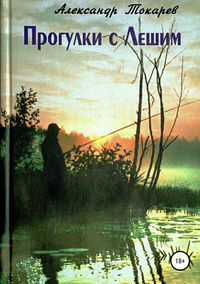Полная версия
Последняя весна

Пашкина дорога
1
«Шанхаем» обитатели двухквартирных бараков прозвали старую часть Игарки. Некоторые из бараков «поплыли» на вечной мерзлоте, по варнацки окосев на один бок. Чернели они под стеклянным от морозной лютости небом, и жители их были такие же скособоченные, кто – телом безруким, безногим, кто – душой. Почему-то любили в «шанхае» замерзать у собственного порога. Выйдет, шатаясь, мужик в свой остылый двор, встанет у желтой наледи, намерзшей на одинокий столб, а там взглянет на пронзительные звезды да на зеленый тусклый след полярного сияния, и то ли тоска его возьмет, то ли удаль. Пойдет мужик с песнями на дорогу, повинуясь, может быть, памяти, генной линии, идущей от лихого Есмень-Сокола – озорника с кистенем. А на обратном пути не рассчитает мужик свои силы, уткнется мерзлой ряхой в тот же столб да там и заснет. Ладно, приятель выйдет – жизнь друга спасет, пусть и без руки тому жить придется…
По «шанхаю» всегда бродили слухи. «Слышь-ка, позавчерась у Стукалова, пока он был в отсутствии, тещу топором зарубили за пять рублей!», – торопилась сказать юркая на морозе бабка такой же каленой подружке. «Без тебя знаю, слыхала уже! – отстреливалась та и выкладывала свою версию: «Не зарубили – испыряли ножами, страшно смотреть. Сорок раз били!..».
Висели над этой негромкой жизнью сизые туманы, скулила метель, краснели морозы за пятьдесят, когда плеваться, что стеклом кинуть, а в домах-бараках жили люди, приехавшие когда-то с материка заработать денег, да так и оставшиеся по привычке в непростых этих местах. Кто-то еще по сталинской статье лямку тянул, а по отпущению приписанных грехов, не смог уже вернуться к прежней жизни.
…Они уезжали навсегда. Так сказала мать. Терпение ее лопнуло, когда посеревший от запойной безысходности отец, то ли всхлипнув, то ли хохотнув, швырнул граненым стаканом в них, сжавшихся на постели. Стакан, ударившись о стену, рассыпался осколками на старом ватном одеяле вместе с крошками штукатурки. Так же рассыпалась и прежняя жизнь.
В скудном мире небогатых людей свой уголок и твердая зарплата значат очень много. И поэтому обещанная матери квартира, пусть и на краю света, да шальные по северному деньги позвали их властно, не давая времени на спокойное раздумье. Они и не раздумывали: взяли самое необходимое и, таясь, не прощаясь с отцом, сели в поезд.
– Приедем, Павел, одену тебя как куклу, конфетами закормлю-у!
Глаза матери, обычно тоскливые, светились сейчас ожиданием нового. Она тискала застеснявшегося Пашку и совала ему купленную в привокзальном магазине шоколадку. Пашка гудел, оглядываясь на попутчиков:
– Чего ты, мам, маленький я что ли?
– Маленький, маленький ты мой! – легко смеялась мать.
И было простое счастье в том, что за окном вагона качались сосны, пухли сугробы, подрумяненные морозным солнцем, на столике позвякивали стаканы в подстаканниках, пахло душисто на весь вагон особенным поездным чаем. Пашке было уютно смотреть, как в стакане, растворяясь, исходят пузырьками куски рафинада. Он дул на чай и все равно обжигался.
– Домой, наверное, едете, к папе? – доброжелательно улыбнулась женщина, которую Пашка назвал про себя директоршей за солидную полноту и взгляд поверх очков.
– Да-да, – не сразу ответила мать, и в глазах ее мелькнула знакомая Пашке тоска. Он сразу возненавидел «директоршу».
От Красноярска до Игарки им предстояло лететь на самолете. Пашке, кроме как с кровати летать не приходилось. Он смотрел на двухмоторный «Ил-14», стоящий на бетоне, и не верил, что эта массивная на вид машина сможет поднять в воздух себя, их с матерью, людей, кучу чемоданов, загруженных в брюхо самолета. У Пашки заныло где-то в районе желудка, как перед дракой или выходя к доске с невыученными уроками. Он затоптался на месте.
– Пошевеливайся, посадка идет! – подталкивала Пашку мать.
Рядом вышагивал крупноносый бородач в унтах. Он, глядя на порозовевшую от мороза мать, компанейски хохотал и выговаривал Пашке уверенным тоном:
– Струсил, пацан, то-то же, Север не любит хлипаков! Но ничего-ничего, с такой мамой не пропадешь!
Он снова захохотал, косясь на мать. Пашка снизу вверх смотрел на его раззявленные губы, смерзшиеся в сосульки усы. Неожиданно для себя он огрызнулся:
– Сами вы струсили, хоть и большой!
Мать выдохнула:
– Как ты разговариваешь со старшими, сынок?! Не смей больше так!.. Вы только не подумайте, что он грубиян, – заторопилась она, обращаясь к бородачу. – Устал, парнишка, просидели с ним в аэропорту сутки. Все погоду ждали.
Мать говорила тем же заискивающим тоном, что и перед пьяным отцом, и Пашка ненавидел этого толстомордого, как ту «директоршу».
Бородач напряженно захохотал, темнея глазами и выплевывая клубы пара:
– Правильно-правильно, пацан. В морду надо, в харю!.. Не кулаком, так словом, только так!
Мать ускоряла шаг, подгоняя перед собой Пашку.
В салоне пахло почти как в поезде: чем-то душно-служебным, наверное, от полотняных накидок на креслах, истрепанных сотнями людей. Квадратные оконца были полузадернуты обычными выгоревшими занавесками, и эта домашность как-то сразу расположила к себе мать. Она турнула Пашку с кресла и поправила накидку.
Бородач сидел на соседнем кресле через проход. «Знал я его… Что?! Да видали!..», – доказывал он кому-то рядом. Пашка показал кулак его затылку и, нырнув под руку матери, сунулся к окну.
За окном, чуть сзади, виднелось крыло самолета с гладкозализанной в нем капсулой двигателя. Винт с четырьмя лопастями был беспомощен в недвижимости, но в мускульном изгибе лопастей чувствовалось предназначение рвать воздух.
– Леха, дальше погоды нет, пусть раздаст пакеты! – послышалось со стороны кабины.
Принесли пакеты, о назначении которых Пашка узнал позднее. Все заторопились, задвигались, возясь с ремнями. Винт двигателя провернулся и сразу куда-то исчез, слился с морозной дымкой, висящей над аэродромом. В ушах гукнуло от шума двигателей, самолет качнулся, вырулил на взлетную полосу, потом, взревев еще сильнее, начал разбег.
Пашку вжало в кресло. Он вытянул шею, отыскивая землю, но она пропала. Смотреть туда было страшно. Борт самолета казался слишком тонким, а за ним – бездна!..
Гул двигателей стал постепенно стихать, вязнуть в ушах. Это почему-то стало неприятно Пашке. Он сглотнул, в ушах пискнуло, словно прорывались мягкие заглушки, и вновь басово, на полную мощь запели моторы. Но уши закладывало с неумолимой периодичностью, и Пашке надоело сглатывать. Он приноровился держать рот открытым, как на приеме у зубного врача. Это помогало.
Внизу тянулись леса с пролысинами заснеженных болот и озер. Иногда самолет накрывал своим гулом семейство лосей – несколько точек на ленте-просеке. Они метались на белизне снега и уходили в сторону. Наползали и пропадали в лесах маленькие деревеньки, редкие зимовья по берегам замерзших рек.
Потом самолет поднялся выше облаков, и седая дымка исчезла. В окна ударил солнечный свет, заголубело небо над пухлой поверхностью розовых облаковых полей. Это зрелище вначале поразило Пашку, он даже подтолкнул задремавшую, было, мать, но вскоре привык, устал от нежно-сладкой красивости, как привыкают ко всему, и сам засопел, уткнувшись головой в окошко.
Проснулся он от ощущения беды. Самолет проваливался в пропасть. Мать сидела бледная и, уставившись в одну точку, теребила кофточку на груди, словно ей было душно. Увидев, что Пашка встрепенулся, она слабо повела рукой: «Спи-спи, сынок, легче…». Она не договорила и зажала рот. Самолет подкинуло вверх, как на взлете, и – снова пропасть!.. Потом его накренило, тряхнуло. «Неужели мы падаем?! – шалея от страха, запаниковал Пашка. – Но почему никто не кричит? Нет, мама сказала бы, она знает…».
Пашка посмотрел по сторонам. Все сидели спокойно. Кто-то дремал, кто-то уткнулся в какие-то свертки. Пашка узнал в них пакеты, которые принесли перед взлетом. Он понял… Дело-то обыкновенное, раз никто особенно не волнуется. Наверное, это и есть воздушные ямы, о которых упоминала ворчливая уборщица в аэропорту. Не каждый, мол, переносит это.
Страх прошел. Осталась хвастливая пацанья гордость: взрослые оказались слабее его, Пашки, даже мама…
Он посмотрел туда, где сидел «толстомордый», как окрестил его Пашка. Того рвало мимо полного пакета. Пашка презрительно отвернулся.
Они где-то садились. Слышались тревожные голоса: «Дальше нельзя… Я не помню такой погоды… не первый год…». Потом все же взлетали, и снова самолет проваливался в бесконечность, выныривал и снова падал.
Бородач ушел, шатаясь, в хвост самолета и больше не показывался в салоне.
Вскоре самолет свалился на крыло, делая круг над россыпью домиков-коробочек, над длинным, мутно чернеющим в сумерках островом посреди широченной стылой реки. Земля набегала, укрупняясь в деталях. А потом забилась она живым пульсирующим телом где-то под брюхом самолета.
«Приехали!», – почему-то испугалась мать.
Выходили из самолета, словно в полусне. В ушах екало, пищало, а в лицо Пашке ударил неожиданно теплый ветер.
– Мама, это Север? – спросил он, не веря. Ему казалось, что они чудом вернулись назад в свой город, в февральскую оттепель, где сырое небо набухает над шиферными скатами домов, ночи светлы, и тенькает настойчиво в подоконник студеная капель.
– Север, сын, Игарка, – рассеянно говорила мать, вглядываясь в сумерки и, похоже, сама не верила в сказанное.
2
Они поселились в «шанхае». С обещанной квартирой, как это водится, пришлось подождать. Соседкой через стену у них была тетя Капа. Она жила с сыном Робертом – безруким инвалидом, красивым белоголовым парнем с нервными губами. Случалось, по любой пустяковине бросал он назад свои белые волосы и лез вперед узкой грудью, выплевывая матерщину.
Таким его Пашка увидел, когда Роберт, пропивший до копейки свою пенсию, с наскока бил тетю Капу розовыми культяпками и требовал «шайтан воды для разгону». Тетя Капа, отводя его жалкие огрызки толстой рукой, говорила ласково: «Уймись, шпана, не рви себе и мне душу». Потом они вместе плакали и пили разведенный спирт. А Пашка, приглашенный тетей Капой на чай, боялся прикоснуться к чашке и варенью. По стенке-переборке бегали тонконогие тараканы. Тикали часы. Тетя Капа, отнеся пьяного Роберта в постель, сидела с Пашкой у жарко горящей печи. «Не бойся, – шептала она. – Он добрый, только вот непутевый, задиристый, как воробей. Тяжело ему без рук. Жена его бросила, а теперь не пускает и детей к отцу повидаться. Он не сильно меня бьет, придуряется больше», – извинялась за сына тетя Капа и подкладывала Пашке куски свежеиспеченного сдобного хлеба.
У матери что-то не ладилось с работой. Она возвращалась невеселая и замерзшая. Пашка собирал на стол, и они пили чай с окаменелыми сушками. Вечера начинались почти сразу же за мутными рассветами и поэтому тянулись долго, нескончаемо. Пашке казалось, что весь мир погрузился в сонный зимний вечер, и жизнь вокруг замерла.
В один из таких вечеров к ним зашел Роберт.
– Разрешите? – спросил он казенно, уже войдя и стукнув локтем в косяк.
– Пожалуйста, Роберт, заходите, присаживайтесь.
Роберт, стараясь не выказывать культяпок, сел в кухонке на табуретку.
– Вы извините, Нина Александровна, я все гляжу, вы скучная ходите не один день. Думаю, зайду, узнаю по-соседски, в чем беда? Я ведь здесь в этом клоповнике всех знаю, кого с детства, а с кем по делу познакомился, по прошлой службе. Все пьют, и взять не побрезгуют, кишка-то у них имеется, извините за грубость. В общем, не стесняйтесь, выкладывайте начистоту.
Мать растерялась.
– Ну, чем вы мне поможете, Роберт?
Они заговорили о чем-то Пашке непонятном. Слышно было: «Главбух?.. А-а, этот… Что вы думаете, он святой?.. Завтра же позвоню, все будет нормально, рыбку он ест, не беспокойтесь».
Потом Роберт, дернув рукавом, словно заканчивая разговор, решительно предложил:
– Все, Нина Александровна, договорились. А сейчас давайте-ка за знакомство, для души…у меня есть. Возражений не принимаю! – замотал головой Роберт на протестующий жест матери. – Это будет не по-соседски. Тем более на улице люто и вы невеселы. И ради бога, не подумайте, Нина Васильевна, я не алкаш какой-нибудь!
– Нет-нет! – замахала руками мать. – Я и не думаю, просто я не пью, совсем… Если только вам составить компанию.
Мать, нерешительно взглянув на Пашку, достала банку тушенки, нарезала хлеб. Подумав, нарезала кольцами лук, полила его маслом.
Роберт, молча, наблюдал за ней. Потом подозвал к себе Пашку.
– Ну-ка, парень, как тебя?.. Павлуха? Загляни сюда.
Он показал кивком на оттопыренный карман.
Пашка достал из кармана бутылку коньяка.
– А теперь сюда… – Роберт показал на другой карман. Там лежал газетный сверток.
– Разверни, – приказал Роберт.
В свертке оказались крупно нарезанные куски жирной розовой рыбы.
– Озерную семужку не пробовали, Нина? – спросил Роберт, любуясь сочным пластом рыбьей мякоти.
– Не приходилось…
– Ну, вот и попробуем заодно, не зря, значит, пришел.
Он придвинулся к столу.
Мать достала рюмки, открыла винтовую пробку. Налила полную рюмку Роберту, себе – на донышко. И со страхом смотрела на Роберта. Тот резко, до появления вдавлин, сжал рюмку культяпками и опрокинул ее в рот. Так же он ухватил и вилку. Закусив ломоть рыбы, он принялся его пережевывать, добираясь зубами до самой жиринки у брюха.
Вскоре мать заалела, перестала обращать внимание на руки Роберта. Они о чем-то говорили, спорили, возвращаясь к теме работы.
Пашка попробовал рыбу и, удивляясь ее нежному вкусу, въелся не на шутку, облизывая жирные пальцы.
Рядом стукнуло. Пашка, дернув от неожиданности головой, увидел опрокинутую рюмку, пятно жарко пахнущего коньяка на клеенке.
Мать, прижатая Робертом к стене, с ужасом и то ли с гадливостью, то ли с жалостью в глазах пыталась оттолкнуть его. Тот, хрипя и алея нервными скулами, культей резко рвал ее кофточку, добираясь до груди.
– Роберт, опомнись-опомнись, прошу тебя! – высоко кричала мать.
Пашка головой вперед бросился на это распаленное безрукое существо. Скрипнула на зубах плотная ткань, прорвалась и уступила место тому, что легко подавалось и сочилось кровью. Потом он молотил куда-то кулаками, а на его плечи уже жестко опустились холодные культи Роберта. Сжали и ослабли…
Тетя Капа била Роберта по-бабьи, но тяжело, обрызгиваясь кровью и плача.
Уводя сына, крикнула матери сломавшимся голосом:
– А тебя… Тебя кто сюда звал, чистая?!.
Ночью на «шанхай» упала пурга, о которой синоптики говорили еще за неделю. Ветер, срываясь с наметенных снежных гребней, несся разгульно вдоль улиц, бил в окна настойчиво и сухо, выл в расчалках антенн.
Пашка, прижимаясь к матери, слышал, что где-то вторят ветру, тоскливо, страшно, тонко. Может быть, ему казалось?..
3
С утра мать и тетя Капа разводили слезную мокреть на кухне, смешно кивая друг другу головами в знак сочувствия. Они как бы соревновались в этом торопливом сочувствии. Была неловкость и недосказанность в женском горестном разговоре.
Пашке надоело их слушать. Он вышел во двор и поразился мягкой тишине. За ночь намело не сугробы, а целые горы снега. Дома уютно попыхивали печными дымками из этих снеговых гор, сравнявших крыши с гребнистой целиной. Кое-где уже протаптывались узенькие дорожки – люди прошли еще потемну на работу. Над селением зависло серо-розовое небо.
Метель принесла короткое тепло, по-видимому, с далекого, но могущественного океана. Радуясь теплу, пушистые северные лайки-хаски и такие же пушистые беспородные дворняги спали на снегу, уткнувшись носами в хвосты.
Бесцельно бродя по улицам, Пашка вышел к маленькому одноэтажному магазинчику. Около него стояли какие-то измятые личности, коих предостаточно везде, разве что, наверное, за исключением щепетильной иноземной стороны.
Но, словно подчеркивая местный колорит, отличие от прочих мест, к магазинчику лихо подлетела оленья упряжка. С нарт поднялся шустрый коротконогий старик с темным вывяленным лицом. Он быстро оглядел разношерстную публику маленькими глазками и что-то отрывисто крикнул в меховую кучу, лежащую на нартах. Куча шевельнулась, и оттуда испуганно вынырнула женщина. Поправив черные волосы, она стала отсчитывать деньги из кожаного кошеля. Старик сердито крякнул и, вырвав кошель из ее рук, пошел в магазин, раскорячивая ноги в оленьих унтайках. Вслед ему заголосила женщина, ей вторила тоненьким подголоском такая же черноволосая девчонка, юрко, словно зверек выглянувшая из той же меховой кучи.
Пашка смотрел на оленей. Они ему не понравились в своем естественном не открыточном облике: безрогие, с потертостями на округлых боках, какие-то маленькие. Олени испуганно топтались на снегу и отрывисто фыркали.
Вскоре в дверях магазина показался старик с ящиком водки в руках. Сверху лежали какие-то свертки. Женщина и девчонка заголосили еще громче, а измятые фигуры у магазина оживились: «Эй, братуха, плесни каплю на излечение, голова бо-бо!.. А-а, идол деревянный, дождешься от него!».
Старик сел на нарты, ловко открыл бутылку и приложился нетерпеливо к горлышку. Потом, оглядев заблестевшими глазами невольных зрителей, повторил процедуру, цокнул языком, погрузил водку и продукты на нарты, и так же лихо унесли олени это странное семейство в белую бескрайность.
Пашка от нечего делать зашел в магазинчик и ему сразу же бросилось в глаза крупно написанное на ценнике – «ананасы мороженные». Вот тебе и край земли!..
Ананас Пашке довелось есть только один раз в жизни. Пах он свежей клубникой и еще чем-то неземным, как тогда показалось Пашке. Он вгрызался торопливо в сочные ломти, обрамленные жесткой рифленой шкурой, от соприкосновения с которой потом чесалось вокруг рта. И завидовалось ему тогда искренне рекламному белозубому негру, висящему на стене в спальне, который, наверное, ел ананасы каждый день: на завтрак, обед и ужин. По крайней мере, Пашка делал бы именно так на его, негра, месте.
Этот рекламный плакат с негром подарил Пашке один летчик, нередко приходящий к отцу. Летчика по утрам трясло, начиная с пальцев и кончая бровями, щеками и уголками рта. Выпив, он преображался и начинал рассказывать необычные истории, вначале нервно и сбивчиво, а с выпитым – уверенно и интересно. Голос его переставал дрожать, тело из дряблого становилось плотным и осанистым. Пашке казалось невероятным, что этот слабый человек, подверженный пагубной страсти, может управлять самолетом. Но, как потом выяснилось, он был не летчиком, а штурманом, видел сквозь фонарь кабины чужое небо, разрывы зенитных снарядов и дымные следы «Стингеров». Тогда предпочитали молчать об этом, но штурман часто был пьян и не сдержан на язык.
(Позднее, во времена афганской войны, он совершал полеты с грузом «200» и где-то сгинул. То ли сбили его, то ли пострадал за свой язык…).
Пашке нравилось, когда к отцу приходили охотники. Они увлеченно говорили о собаках, ружьях, дичи. Слушая их, Пашка словно втягивал ноздрями дым костров, чувствовал холод студеных осенних рек, слышал тоскливый крик гагары над озером. Он любил рассматривать фотографии, на которых были люди в брезентовых плащах и ватниках, увешанные патронташами, подсумками и прочей охотницкой снастью. От фотографий, казалось, пахло кислым пороховым дымом.
Однажды они с отцом были на разливе. Мутные воды с шелестом неслись мимо затопленных берез и дубов. Весь мир был залит влажной тишиной, свежестью проталин, горечью оживающей коры и запахом сочащегося березового сока. Сок стекал в банку по аккуратно вырезанной в коре ложбинке. Пашка смотрел на ленивые капли, падающие в банку, и, не выдержав, пил то немногое сока, что успевало скопиться. Отец, смеясь, доставал точно такую же банку, но наполненную до краев. Они пили сок. Где-то осторожно крякала утка. Отец, прижав ладони ко рту, подражал ее кряканью, но утка испуганно смолкала. Отец конфузился, и они смеялись, а потом ехали домой на старом мотоцикле, и пели какие-то непонятные громкие песни, каждый свою, стараясь перекричать рев двигателя.
После таких поездок отец, словно спохватившись, начинал заниматься с Пашкой по утрам зарядкой. И тогда они вставали чуть свет, голышом бегали по комнате, размахивая руками. Отец кряхтел, выжимая гири. Вспотевшие, они стояли под холодным душем, от струй которого Пашка старался уклониться, ознобливо пищал и ежился, покрываясь гусиной кожей. Растертый докрасна полотенцем, он наполнялся удивительной легкостью и страшно хотел есть. Они сидели на кухне и ели прямо со сковородки шипящую глазунью, посыпанную зеленым луком.
Все ушло, осталось там, в заснеженном сейчас городке, где на ветвях рябин пыжились красногрудые ухари-снегири. Ушло и то, о чем не хотелось вспоминать. Позади остались ночи без сна, спешная готовка уроков в подвале при свете запыленной лампочки, и то невыносимое ожидание, когда время словно прессовалось в тягучий страх.
Вначале было ожидание. Когда в окна заглядывала ночь, мать надевала на Пашку старую шубку, готовясь уйти, и они смотрели, как на улице давится сырым снегом февральская метель. А потом во входную дверь ломилось тяжелое тело, и вместе с его ударами начинала нервно трястись пружинная кровать под матерью. Пашка прижимался к матери и знал, что сейчас взовьется клокочущий пьяный крик, отец, расшвыривая вещи, заскрипит половицами, и шаги его будут приближаться к ним… Вот сейчас…
Пашка замер от привычного, всплывшего откуда-то неожиданно ясного страха, словно не было долгих дней дороги, временной протяженности, в которую уже успели войти новые люди и события, плохие и хорошие. Он мотнул головой, отбрасывая наваждение, и снова уставился на витрину.
– Ананасы едят! – почему-то буркнул он, ни к кому не обращаясь.
– Чего тебе, мальчик? – небрежно кивнула продавщица из-за прилавка.
– Так… Ничего…
– Ну, иди тогда, не вертись под ногами!
– Жалко вам?
– Иди-иди…
4
Пашку определили в школу, в четвертый класс. Школа была деревянная, насквозь пропахшая остуженными сенями и немудреным столовским супом. Здесь, так же как и в той Пашкиной школе, носились по коридору пацаны, стоял на переменках нескончаемый гвалт.
«Это ваш товарищ. Его зовут Паша Лобов, и с сегодняшнего дня он будет учиться в нашем классе», – кратко представила Пашку скучающе усталая учительница с заживающими после обморожения пузырями на лице.
Она указала Пашке место за партой и принялась чего-то писать. Класс настороженно смотрел, оценивая новичка.
На переменке к Пашке подошли двое.
– Ну, Паха, давай знакомиться, – вроде бы миролюбиво посмеивался тот, что пониже.
– Ладно, ты! – оборвал его второй.
Пашка из перешептываний на уроке узнал, что его зовут Лысым, видимо, за просвечивающую сквозь светлые волосы розоватость.
– Пойдем, поговорим, – Лысый толкнул Пашку плечом.
Они пошли во двор. Пашка знал, что сейчас будет и чувствовал легкую дрожь волнения и азарта. Все было схоже: и эта учительница со скучным лицом, и это – «пойдем, поговорим», и даже двор был чем-то схож с тем заваленным досками двором Пашкиной школы, где частенько они, пацаны, выясняли свои отношения.
– Давай здесь, – остановился Лысый и сразу с разворота ударил Пашку в подбородок.
Потом они катались в снегу, задыхаясь от морозного воздуха и злобы. От Лысого пахло табачной вонью, он слабел и пытался отползти от Пашки, но Пашка в остервенении вдавливал его в снег. Сзади ударили. Пашка ткнулся носом в Лысого и ослеп от ударов, посыпавшихся на него с двух сторон.
– Ну-ка, отвали, шакалы! – крикнули где-то недалеко. Удары прекратились.
Пашка сел, отряхиваясь от снега и зажимая кровоточащий нос. Рядом с ним стоял Роберт.
– Ну, чего ты затылок-то подставляешь? – насмешливо кривился он. – Вот и завалил он тебя по-шакальи.
Пашка сплюнул кровью.
– У нас один на один принято и сзади не бьют.
– Где это у вас? А-а, ты ведь с материка, с Луны, значит. Запомни, в жизни нет правил, здесь бьют, когда выгодно… – Роберт замер, словно прислушиваясь к себе. – Нет, Павлуха, наверное, ты прав, но затылок береги на будущее. Дойдешь до школы?
– Дойду, – хмуро бросил Пашка и пошел в класс.
Роберт смотрел ему вслед.
Пашка опоздал на урок. Во время звонка он еще умывался, разглядывая в зеркале разбитую губу. Стукнув в дверь с табличкой «4-а» класс, он вошел под пристальными взглядами своих новых одноклассников. На передней парте хихикнула девчонка.
– Так, – строго сказала учительница. – Начинаем с опозданий, Лобов? И что это у тебя с лицом?
– Упал, Маргарита Андреевна, – оправдывался Пашка.
– Упал? – учительница, пристально глядя на него, махнула рукой, садись, мол, и, поднявшись из-за стола, как-то непривычно просто обратилась к классу.