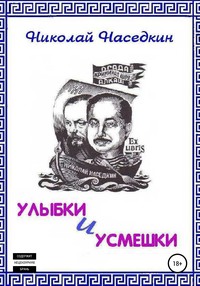Полная версия
Гуд бай, май… Роман-ностальжи
Так вот, так совпало-случилось, что ближайшие соседи Люды куда-то уехали надолго. Я знал, что комната её выходит окнами прямо в соседский двор. И вот, бесстыдник, я вон чего придумал: вскочил по будильнику в несусветную рань, подобрался к окну Людиному и приготовился лицезреть тайное и сладкое. Облом! Шторы оказались плотно задёрнутыми. Тогда я отправился на вахту вечером, когда стемнело. На этот раз мне повезло: и плотные шторы на сей раз ещё почему-то были открыты, а сквозь тюлевые всё отлично просматривалось, и Люда была в комнате, в домашнем халатике – подметала пол веником. Я на неё полюбовался, высовывая свой чуб над карнизом, попредвкушал, как она после уборки начнёт ко сну готовиться, раздеваться, постель стелить… И она действительно начала постель стелить. Дыхание моё участилось…
Впрочем, не буду заново повторяться-живописать – сцену эту описал я впоследствии в рассказе «Встречи с этим человеком», соединив её со сценой уже из другого, следующего моего романа, ибо прототипом героини «Встреч» была уже Галя.
…Я издали её любил. Провожал её тоже на расстоянии. А по вечерам на свидания ходил. С её окнами. Стоял часами и смотрел театр теней. И сердце шевелилось в груди, как большой кролик в тесной клетке.
Раз даже охамел до смелости, в темноте перевалился через штакетник палисадника, пробрался между клумбами и к её окну нос приплющил. Одна штора – моя союзница! – чуть завернулась, и я увидел…
Она стояла боком к окну и разбирала постель. Задумчиво, медленно сложила пополам, потом вчетверо розовое покрывало, повесила на спинку стула. Откинула одеяло в ослепительно белом пододеяльнике. Взбила розовую подушку. Подошла к трюмо у противоположной стены, взяла гребень и провела несколько раз по светлым своим волосам. Потом достала розовую ночную рубашку из шкафа и положила на кровать.
«Надо уходить!»
Люся пробежала пальцами по пуговичкам домашнего халатика и скинула его. На ней были только розовые трусики и какой-то девчоночий, видимо, самодельный беленький лифчик. Она мягко перегнулась, расстегнула его и зябким движением выскользнула плечами из бретелек. Я, задыхаясь, увидел два нежно-розовых кружочка, рдеющих на пронзительно белых беззащитных холмиках… Вдруг она вздрогнула бросила взгляд на окно и потянулась к рубашке.
Я рванулся напролом сквозь колючую акацию. Обжёг лицо. С маху саданулся о штакетник. Отлетел. Вскочил. Перебросился через него и, шатаясь, пошёл. Я бродил до рассвета. Щёки мои горели, под ложечкой сладко ныло, в глазах всё было белым и розовым, белым и розовым…
(«Встречи с этим человеком»)
На самом деле (уж признаюсь!) до стриптиза на сей раз не дошло: в самый пиковый момент, когда Люда уже приготовилась расстегнуть халатик, я, видимо, от волнения потерял осторожность и карниз жестяной тренькнул. Она встревожено глянула в сторону окна. Я нырнул вниз, затаился. Переждав, как мне думалось, разумное время, я осторожно начал подниматься с корточек, высовывать голову и – глаза в глаза, что называется, встренулся с Людой. Секунд пять мы напряжённо, в явном шоке друг на друга смотрели, затем я подхватился, метнулся, взлетел птицей на высокий забор, сорвался с него, ободрал всё что мог и бросился прочь. И потом долго стеснялся смотреть Люде в глаза. Она, правда, делала вид, что ничего не было.
Ну а, можно сказать, апофеозом моей любви к Люде стал случай, который вставил я позже в автобиографическую повесть «Муттер». Там, восстанавливая в памяти свои дни рождения, я вспомнил и то, как отмечал 15-летие:
…Анна Николаевна была убеждена: не еда на празднике господин, а – гости, беседа, общение. Я же с каждым годом становился всё более и более убеждённым материалистом. И вот на своё 15-летие я напрочь, наотрез отказался от услуг, помощи, содействия и вообще какого-либо участия матери в юбилейном банкете. Я вытребовал только: выдать мне тугрики и уйти из дому часов на пять. Этим я обеспечивал весьма удобную позицию: за столом я мог шутливо хехекать (я и хехекал!), пренебрежительно махать рукой (я и махал!), с намёком обранивать в беседе:
– Разносолов нет: муттер моя – хе-хе! – забастовала… Так что мы по-походному, скромненько… Нам что? Выпьем, закусим, да гулять рванём…
Правда, корчиться внутренне поначалу всё же пришлось: я пригласил Люду, с которой сидел тогда за одной партой, и от одного соприкосновения наших локтей во время урока меня шибало током в 10 тысяч вольт. Я пригласил её, но не надеялся, что она удостоит мой день рождения своим присутствием, а она – пришла. И сидела в нашей конурной комнатёнке королевой во главе стола среди пяти-шести ребят. Стол наш колченогий чуть не подламывался от яств, купленных на те десять рублей, что выдала мне мать, взяв взаймы их у соседки. На сей безразмерный червонец я закупил:
пять бутылок вина «Розового крепкого» по 1 р. 07 к. – 5 р. 35 к.полкило колбасы по 2 р. 20 к. – 1 р. 10 к.две банки килек в томате по 36 к. – 0 р. 72 к.четыре плавленых сырка по 14 к. – 0 р. 56 к.две бутылки ситро по 27 к. – 0 р. 54 к.полкило конфет «Школьные» (1 р. 70 к.) – 0 р. 85 к.буханку серого хлеба – 0 р. 18 к.пять пачек «Примы (14 к.) – 0 р. 70 к.ИТОГО: 10 р. 00 к.
Если б не было Людмилы Афанасьевны за столом, я бы искренне ощущал себя Крёзом, угощая приятелей. Впрочем, топорщиться я вскоре перестал, после первого же доброго глотка («Розовое» действительно оказалось «крепким»). Да и было не до того. У меня подрагивали коленки и стучалось-билось сердчишко моё, просилось на волю оттого, что рядом сидит Люда, ласково на меня взглядывает, а мне исполнилось 15 взрослых лет. Я пил крепкое вино, смолил жадно «Приму», смотрел на Люду-Людочку-Людмилу и с каждым глотком всё смелее, всё увереннее знал: сегодня я впервые поцелую её. И – поцеловал!..
(«Муттер»)
На этом вскоре всё и кончилось. Наступил день рождения самой Люды. Меня она не пригласила. Зато пригласила нашего одноклассника Виктора, зазнаистого вальяжного парнишку, родители которого работали в районном банке. С ним она и начала крепко дружить. Но вскоре они, к моей радости (а чему радоваться-то?!) разругались, и Люда взялась по вечерам гулять с другим Виктором, из параллельного (тогда уже 9-го) «Б». А вскоре и я, зализав сердечные раны, сначала пережил-испытал эпистолярный роман с первой в моей судьбе Наташей (следующая глава) и затем влюбился уже по-настоящему в Галю, окрасив финал школьной жизни страстной, горячей и феерической любовной историей.
А Люда с тем Виктором сразу после окончания школы сыграли свадьбу, принялись рожать-плодить детей, остались навсегда в родном селе. Время от времени наезжая-возвращаясь туда, я обязательно заглядываю к ним в гости. У них в доме уютно, хлебосольно, хорошо, стабильно (Виктор умеет зарабатывать деньги). Две дочки уже выросли, стали невестами. Люда располнела, приобрела дородность почти такую же, какой обладала её мать. На жизнь не жалуется.
Однажды, когда после очередного гощения у них они с Виктором провожали меня через сельский парк домой к моей сестре, где я остановился, в разговоре упомянул я о Гале как о первой своей любви. Подвыпившая Люда (а мы хорошо у них посидели – коньяку, водки и вин было вдоволь!) вдруг всерьёз расстроилась, ужасно вдруг обиделась и начала-взялась при Викторе, при муже, пенять мне горячо и горько: мол, как это я мог такое сказать-ляпнуть, когда первой моей любовью ведь была она, Люда!..
Я, конечно, охотно согласился, спрятав за улыбкой лёгкую горечь далёкой полудетской обиды:
– Да, да! Прости меня, Людочка, прости! Именно ты была моей первой любовью!
И про себя добавил: «Только безответной!»
Виктор шёл и посмеивался…
3. Наташа I
Да, эта Наташа тоже достойна памяти!
Ну, во-первых, повторяю, потому, что была первой Наташей в моей судьбе. Как-то везло мне именно на Наташ и ещё на Лен, так что придётся мне их нумеровать (титуловать!), как императриц, каковыми для меня, в сущности, они и были-являлись – каждая в своё время.
Во-вторых, эта Наташа, несмотря на, скажем так, книжность и детскость нашего романа, осталась в памяти ещё и потому, что это был первый и едва ли не последний в моей жизни случай, когда я будучи абсолютно в трезвом виде познакомился и «начал отношения» с девушкой, которую едва знал, только что увидел. В этом плане я вообще-то бирюк и мастодонт. Практически всех женщин, в коих я влюблялся, – знал я длительное время до того: учился или работал с ними вместе. Для меня знакомство на улице или в общественном транспорте – только предмет фантазии: увидишь порой красавицу в троллейбусе, стоишь с ней рядом, слегка потея от мечтаний, и представляешь, как скажешь ей удачное словцо, она засмеётся-откликнется, вы заговорите, пообщаетесь, потом выйдете на остановке вместе, пойдёте к ней домой и…
Это ж надо куда может фантазия завести!
Повторяю, в поддатом состоянии я ещё мог где-нибудь в компании или в кабаке познакомиться-сойтись с понравившейся мне красоткой, но в трезвой повседневности куража на это не хватало. Если честно, я завидовал (да и сейчас ещё завидую) расторопным ребятам, умеющим знакомиться с красавицами с ходу, не комплексуя. Есть ведь вообще в этом плане уникумы. Я лично знал двоих-троих. Помню Володю с весёлой фамилией Мымрик, с которым вместе впервые поступал когда-то в университет, жил в одной комнате общаги. И внешность у него была под стать фамилии – вовсе не геройская: курносый невысокий парнишка с впалой грудью. Но, Боже ты мой, что он вытворял с девчонками и женщинами – с любой, на какую только взгляд своих тёмных глаз изволил положить. Он, к примеру, на спор подходил-подваливал к любой прохожей девушке на улице, и уже через пять-десять минут она шла с ним, куда он хотел, напрочь забыв про свои дела, своего любимого или мужа… Вероятно, этот Володя Мымрик (ау, если ты жив – привет, друг!) обладал-владел гипнозом. Но ведь сколько есть парней, кои могут без всякого гипноза подвалить к любой понравившейся им красавице и навязаться на знакомство.
Я не могу. А жаль.
Ну так вот, с Наташей нас свёл случай. Она жила в Туве, я – в Хакасии. Летом 1969-го каждый из нас отправился в путь. Я после 9-го класса – на Украину в гости к дяде; она после 8-го – в знаменитый пионерлагерь «Артек». И в этом, казалось бы, никакого намёка судьбы нет (мало ли людей отправляются в путь в одно время и в одном направлении), но именно в то лето случилось в Абакане небывалое доселе наводнение, какие-то железнодорожные пути размыло, и поезд «Абакан–Москва» поехал кружным путём через Красноярск, где в вагон наш плацкартный и подсадили школьников из Тувы.
И, опять же, была эта Наташа не такая уж ослепительная красавица, отнюдь, но, помню, при первом же взгляде я выделил её из группы пионерок, заполнивших вагон, сердце у меня сладко и тревожно притиснуло в каком-то предчувствии. Хотя, вероятно, она всё же выделялась уже тем, что была постарше прочих девчонок-попутчиц, и красный галстук на её белой майке ещё сильнее подчёркивал уже сформировавшуюся совсем не пионерскую грудь.
Добавлю-уточню, что Наташа была, конечно, русской русоволосой девчонкой, просто родилась и жила в Туве. Здесь это «конечно» не несёт никакого шовинистического оттенка, я просто констатирую странный факт: несмотря на то, что родился я и вырос в азиатской Сибири и в моих жилах, судя по некоторой раскосинке в глазах, широких скулах и смуглости кожи, течёт толика и чингисхано-батыйской крови, – в женщинах мне милы и любы почему-то только русско-европейские черты…
Ну так вот, ехал я на боковом плацкарте внизу, Наташа (я уже знал-подслушал её имя) устроилась на верхней полке в соседней секции чуть наискосок от меня и смотрела почему-то не в окно на мелькающие пейзажи, а в проход на бурливую вагонную жизнь-суету. Взгляды наши то и дело перекрещивались-сталкивались. Она каждый раз как-то пытливо всматривала на меня своими светлыми ясными глазами и в некотором недоумении встряхивала пышной чёлкой. Когда девчонка, соскользнув вниз, убежала на время к подружкам в другое купе, обедавшая женщина с нижней полки брезгливо проворчала сквозь непрожёванную курицу:
– Ну что ты будешь делать! Трясёт и трясёт своими патлами прямо над столом…
Муж сконфуженно на неё махнул рукой:
– Да перестань ты!
Я тётку эту жирную тут же прям и возненавидел: словно родного мне человека оскорбила! Взялся кипеть и планы строить: во-первых, как пожирательницу куриц осадить, и, во-вторых, как Наташу предупредить, что она раздражает нижнюю соседку…
Естественно, все прожекты, как во-первых, так и во-вторых, остались бы на уровне мыслей и мечтаний, если бы не резкий поворот событий. В проходе показалась Наташа, приблизилась, но, вместо того, чтобы свернуть к себе, прошла мимо меня к купе проводника, и я даже не сразу заметил, что на столике передо мной оказался квадратик плотно свёрнутой бумаги. Увидел-обнаружил, взял, с недоумением развернул и тут же меня макнуло в жар: «Привет! Меня зовут Наташей. А тебя? Куда ты едешь?»
Я развернулся, посмотрел – она индифферентно стояла у титана, смотрела в окно. У меня хватило остатка ума, не охваченного температурой, чтобы догадаться: она ждёт немедленного ответа. Только вот в каком виде? Подойти к ней и заговорить? Или ответить тоже письменно?
После короткого, но весьма энергичного колебания я остановился на эпистолярном варианте, стащил свой фибровый чемодан с третьей полки, отыскал тетрадку, авторучку, дрожащей рукой накарябал: «Привет! Я – Николай. Еду через Москву в Луганск. А ты куда?»
Сложил записку квадратиком, опять обернулся и выразительно глянул. «Моя» пионерочка тут же продефилировала мимо, ухватив на ходу записку. Потом проворно вспорхнула, словно белка, на своё место, развернула эпистолу, внимательно изучила, глянула на меня, улыбнулась, взяла тетрадь и принялась строчить целое письмо…
И началось!
Кому рассказать – не поверят: трое суток мы, находясь в одном вагоне в двух метрах друг от друга, строчили с Натальей друг другу послания, извели каждый по толстой тетрадке, и только перед самой Москвой, часа за два, когда Наташа сидела одна внизу, я решился, встал, подошёл, сел рядом и буркнул: «Привет!» На этом мы и застряли. О том, чтобы взять её сразу за руку, как наметил загодя, – я тут же позабыл. Да и разговор почему-то не клеился. До этого в письмах-записках мы уже болтали обо всём, исповедовались, шутили, а тут как морок на нас напал – мы скукожились, напряглись и просидели в неловком молчании минут пятнадцать, пока я не буркнул: «Ну пока, пиши, если что…», – и не ретировался на своё место.
Это, видимо, и сыграло роковую роль впоследствии, когда судьбой была представлена возможность нам с Наташей увидеться-пообщаться после почти двухлетней переписки. Первое письмо она мне прислала уже на Украину из «Артека», и мы взялись активно переводить бумагу и почтовые конверты, обмениваясь посланиями чуть не каждые три дня. К сожалению, когда я собрался спустя много лет жениться, то накануне свадьбы перебрал весь свой эпистолярный холостяцкий архив и сохранил из него только малую толику писем моих бывших подружек и любимых – особенно горячих и мне по тем или иным причинам дорогих. Увы, вся толстая пачка посланий Наташи из Тувы канула в огонь, и сейчас я даже жалею, что не оставил хотя бы для истории ни единого. Остались только несколько её фотографий-портретов.
Короче, после двухлетней интенсивной переписки (я уже и с Галей вовсю «любился», а в Туву всё продолжал писать-отвечать) Наташа сообщила в очередном письме, что будет проездом в Абакане такого-то числа, и у нас появится наконец возможность встретиться и поцеловаться. И я, скорей всего, помня напряг в вагоне при личном общении, взял, да и, уже приехав в Абакан, принял на свою хилую грудь для храбрости порцию спиртного. И, как это бывает, – перестарался-переборщил. Честно говорю, не помню и до сих пор не знаю, что и как было: встретились мы с Наташей или нет, обиделась ли она на моё состояние «нестояния» или на то, что я вовсе не явился в назначенное место, – только очнулся я на следующий день уже дома, в своём селе, помятый и больной, и после этого ни на одно моё эмоциональное послание (а я раза три ещё писал-составлял письма) она не ответила.
Наташенька, милая, прости меня обормота, если ещё помнишь!
4. Галя
О, Галя!!!
Если Наташа и «роман» с нею впоследствии никак не отразились в моём творчестве, то Галя стала героиней не одного моего произведения. Мало того, когда через уйму лет я начал строить-лепить свой персональный сайт в Интернете, то на одну из первых страничек поместил фото Гали, объявив на весь Web-свет: вот эта красавица – моя первая любовь!
Да и то!
Галя действительно была не только моей первой НАСТОЯЩЕЙ любовью, но и первой безусловной красавицей в моей судьбе. Она, как это часто и бывает, со временем вполне поняла-осознала силу своей внешности, и это отнюдь не делало характер её лучше. Но мне посчастливилось застать её в тот замечательный период, когда бутон её красоты только ещё распускался, и возрастные комплексы девочки-подростка ещё бродили в ней. Весь волшебный путь превращения угловатой девочки в ослепительную девушку она проделала на моих глазах, вместе со мной и даже в чём-то благодаря мне…
Впрочем, не будем забегать вперёд.
Итак, ей – 14, восьмиклассница; мне – 16, я учусь в десятом, выпускном. Осень. Я её увидел-заметил сразу…
Хотя, что я буду повторяться. Во вставном рассказе из повести «Казарма» конспект нашей дружбы-любви изложен довольно полно. Там, в повести, по сюжету три солдатика-сапёра лежат в лазарете и рассказывают друг другу историю своей первой любви. Я только имя изменил. Но сейчас я верну герою-повествователю (то есть – себе) своё имя:
…Таким образом, моя очередь играть роль Шехерезады наступила после завтрака. Начал я неожиданно для самого себя в шутливом тоне:
– Да-а-а… А я, граждане болящие, если признаться, женатым был.
И Борис, и Рыжий недоверчиво на меня посмотрели.
– Что, молодо гляжусь? Ну, тогда можете представить, как я выглядел три года назад. Короче, слушайте.
Начну я, пожалуй, с середины. Как познакомился с Галей, первые вздохи, поцелуи, признания – всё это неинтересно…
– Ну нет, – прервал Пашка, – так дело не бухтит! Куды спешить-то нам? Давай трави с самого начала, как мы. Мне всё интересно.
– Конечно, – поддержал его Борис.
– Ну, ладно… Я учился в десятом, она – в восьмом. Не знаю, сужу ли я беспристрастно, но она мне казалась, да и сейчас кажется, как Пашка выражается – клёвой на внешность. Кстати, фотка у меня есть.
Я достал из кармана пижамы небольшую фотографию и протянул её Рыжему. Это фото я очень любил, потому и сохранил только его из тех двух десятков, что надарила мне Галя. Она снялась в школьной форме. Кружевной воротничок облегает девичью шейку (которую я так любил целовать!), пышные каштановые волосы двумя хвостами лежат на плечиках, большие светлые глаза кротко-удивлённо смотрят мимо объектива куда-то в неведомую даль, и припухлые, нечётко очерченные губы чуть заметно, «по-джокондовски», улыбаются.
Вот такую я её и помнил!
– Ого, и точно – клёвая! – высказался Пашка.
А Борис, прочитав надпись на обороте – «Коля, милый, не забывай!» – улыбнулся: – Хороша!
– Впрочем, она не всегда такой кроткой была, – зачем-то заскочил я вперёд. И начал опять сначала.
– Итак, дружить, как это у нас называлось, мы начали осенью. Как оно всегда и бывает, до этого я Галю не замечал. Да оно и немудрено: школа у нас хоть и сельская, но многолюдная – учеников в ней больше, чем солдат в полку. А в то время, видимо, и подтвердилась в очередной раз старая сказка – гадкий утёнок превратился в лебедя. Одним словом, увидел я её в первые сентябрьские денёчки – помню, на перемене, в буфете, – и сразу твёрдо решил: закадрю!
(Ты уж извини, Паш, что я опять твоим словечком воспользовался, но уж больно они у тебя образны!)
Однако ж, решить – ещё не сделать. Кружился я с месяц вокруг, но всё не решался подойти и заговорить. Друзья-приятели даже подначивать уже стали: давай, мол, а то сами…
Случай помог. Первый школьный вечеришко состоялся. Скучновато они у нас проходили: под аккордеон полечки и летки-енки танцевали да в трубочиста играли. Она меня на этом вечере в пару трубочистом выбрала, но я так и проморгал молча до тех пор, пока нас не «разбили».
Как всегда, в двадцать один тридцать наш дерик сказал: баю-бай, мальчики и девочки! – и мы, даже не поуросив (уже привыкли), поплелись к раздевалке. Иду и думаю: «Надо подойти сегодня, надо!.. А может, завтра лучше? После уроков?..» Короче, как маятник качаюсь.
Надел пальто, сунулся в карманы, а перчаток нет. Для справки поясняю: до этого у меня кожаных перчаток никогда не было, а эти, хромовые, чешские, дядькин подарок из Москвы, я носил всего третий день. Аж визжать захотелось от обиды и злости! А когда я злюсь, решительности во мне хоть отбавляй. В общем, визжать и плакать я не стал, а догнал Галю в этот вечер и, как говорится, объяснился. Она – потом выяснилось – давно уже этого ждала.
Ну, дружили мы, дружили (смешное слово!), а поцеловал я её в первый раз только девятого декабря. Запомнилось вот. Это вообще анекдот был. Морозец – градусов под тридцать, слышно, как на Енисее лёд трескается, а мы стоим, переминаемся. Она-то выскочила только на минуту, сказать, что мать сегодня выходная и не отпускает её гулять, – да и задержалась. (А мамаша у неё билетёршей в Доме культуры работала, но о ней позже.) Пальтишко на Гале внакидку, шапка-ушанка братова на голове. Она к палисаднику отклонилась, глаза закрыла и дурачиться начала.
– Я за-сы-па-ю-ю-ю… Я за-мер-за-ю-ю-ю… Засы-паю-ю-ю…
И затихла. И губы мне подставила. Ну, я потоптался, посопел и наконец решился – надо целовать! Взял её за плечи – молчит и ждёт! – и начал лицо своё клонить. Только осталось: вот-вот и поцелую, как, представьте только, – насморк!
Отодвинулся я, пошмыгал носом и – опять к ней. Только наклонюсь, снова «авария», снова шмыгать надо. Вспотел весь от позора, пар от меня валит, а она, главное, глаз не открывает, словно и правда её здесь нет. Ну, думаю, сейчас или высморкаться надо внаглую и всё в дубовую шутку обратить, или целовать, как сумею. Иначе – стыдобушка!
Подготовился, наклонился и прижал свои губы к её…
И всё, парни, дальше что было – не помню. Галя потом рассказывала, что, дескать, оттолкнула меня, выговор закатила и убежала. Я же себя уже на полдороге к дому обнаружил. Ни до, ни после я подобного больше не испытывал – как пьяный был: пальтецо нараспашку, шапка в руке, ноги скользят по насту, внутри такое ощущение, будто на качелях да всё время вниз и вниз… Собачонка приблудная, помню, тут же ковыляет рядом со мной, продрогшая, поскуливает – притащил её домой и накормил своим ужином…
Я потом всё думал, почему так одурел от простого прикосновения Галиных губ? Ведь целовался уже с девчонками до этого, бутылку на посиделках в кругу крутили…
– Ну, а как, как у вас «это самое-то» было? Когда случилось-то? – квакнул вдруг Рыжий.
Тумблер щёлкнул, голубой экран в душе угас. Я начал считать про себя до десяти. Борис укоризненно сказал Пашке:
– Ты же сам просил подробнее и издалека, будь же последователен – жди.
– Да я чё? Я ничё?.. Если б взасос – ещё туды-сюды, а то кто ж так… да ещё на морозе… да чтоб забалдеть… Ха, от поцелуя! Да я хоть тыщу раз засосу, и хоть те хны…
Рыжий бормотал всё неувереннее, начиная понимать, что бредёт не в ту степь. Я молча отвернулся к стенке и накрылся одеялом с головой. И не реагировал уже ни на что до самого провала в сон.
Снилось мне наше село, зарывшееся в снег, который всё падает, падает, падает… Мы стоим с Галей, взявшись за руки, одетые почему-то по-летнему – она в сарафане, я в рубашке – и нам не холодно, но мы шмыгаем носами и смеёмся. Я закатываюсь, а сам думаю: «Какие мы ещё дети! Нам и целоваться-то ещё рано!»…
После обеда я держал форс целый час и не отвечал даже Борису. Правда, он тоже оказался с характером и сразу отстал от меня. Мы лежали с ним по своим углам и читали…
Пашка извертелся от тоски. Наконец, как и ожидалось, он не утерпел и заскулил: дескать, так нечестно, все рассказывали, а ты, Колян… И проч. Я, конечно, поломавшись, сдался.