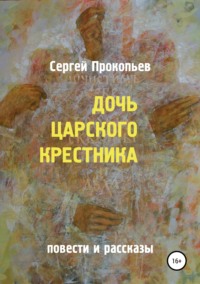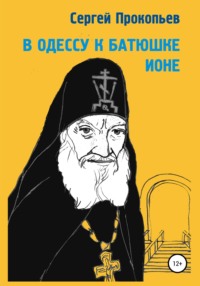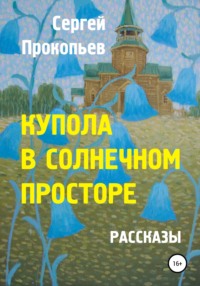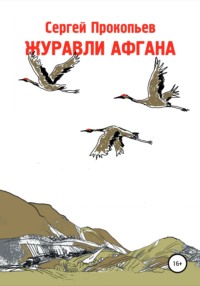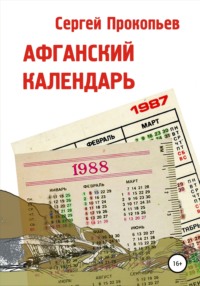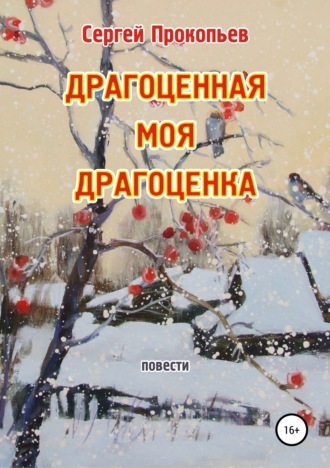 полная версия
полная версияДрагоценная моя Драгоценка
Брат мой Афанасий Ефимович с двадцать седьмого года… Сыновья у моих родителей рождались тройками и погодками. Первая тройка: Гавриил, Афанасий, Дмитрий – двадцать шестого, двадцать седьмого, двадцать восьмого годов рождения. Вторая – тридцать девятый, сороковой, сорок первый…. Старшая сестра Тоня с тридцатого года, младшая сестрёнка Галя с пятьдесят второго.
В Драгоценке школа была семилетка, а в сорок шестом сделали десятилетку. Афанасий в первом выпуске, в сорок седьмом окончил. Как сейчас помню: в школе старшеклассники представление дают, на сцене брусья гимнастические, мой брат Афанасий подходит к снаряду и пошёл показывать фигуры «высшего пилотажа»… Невысокий, крепкий, стройный… Я, само собой, сидел гордый…
Он, как выяснилось, ещё в школе вынашивал с друзьями планы, навострились махнуть через границу. После сорок пятого появились советские учебники, книги. Учителя говорили: вас ждёт ваша Родина, вы нужны ей. В сорок восьмом, сразу после Крещения, Афанасий с двумя друзьями рванул. Взяли нашу лошадь – воспользовались моментом, отца с матерью дома не было, – запрягли в сани и дёру… Поехали вчетвером, один в качестве сопровождающего – лошадь пригнать обратно. Отец возвращается, глядь, саней нет, коня нет… С перекошенным лицом вбежал в избу:
– Где этот стервец? Когда уехал?
У меня за день до этого горло заложило, мама не велела выходить из избы, на полатях сидел, поэтому не видел, когда Афанасий улизнул. Мне он ни слова не сказал. Отец в седло и в погоню. Снегов в Трёхречье больших не выпадало, в сильные морозы земля растрескивалась. Всегда была опасность, лошадь (особенно, если подслеповатая) могла угодить ногой в трещину. Нога ломалась как спичка. Бог отца миловал, на бегунце Урёшке вёрст за десять до границы по санному следу настиг беглецов, завернул.
Афанасий после этого уехал в Харбин на повышенные ветеринарные курсы при КВЖД. Но не окончил их, с год поучился, бросил, вернулся в Драгоценку и пошёл в школу преподавать географию…
После неудачной попытки Афанасия младший Кокушин из первой тройки сыновей – Дмитрий – наладился в побег на советскую сторону. По льду и тоже с друзьями. Перешли границу и сдались пограничникам: хотим жить в России, а не на чужбине у китайцев. От него отец никак не ожидал такой прыти. Митя с детства страдал болезнью ног. До трёх лет вообще только ползал. Потом по молитвам матери поднялся на ноги. Но всю жизнь ходил тяжело. Среднего роста, кряжистый, хоть куда парень, а походка ненормальная… Физический недостаток не остановил, отправился заграницу. Он и ещё четверо или пятеро таких же романтиков. Сговорились, лошадь тайком взяли, теперь уже не у нас, также нашли провожатого – лошадь вернуть. Всё получилось в лучшем виде. По льду перешли Аргунь и к пограничникам: вот мы, молодые и красивые, хотим жить в Советском Союзе, принимайте патриотов.
Пограничники, само собой, сграбастали нарушителей. И случилось невероятное – выгнали обратно: мотайте в свой Китай, и чтоб духу вашего здесь не было. Я хорошо запомнил, как Митя вернулся в Драгоценку. У меня дружок был, Витька Шароглазов. Он забегает к нам во двор:
– Ваш Митька вернулся!
Увидел нашего скорохода на улице, обогнал, спеша сообщить мне радостную весть. Отец на крыльце стоял, смотрю, у него слёзы на глазах. Думал, Митя, как и Ганя, исчезнет бесследно. После убёга Мити отец места себе не находил, корил себя, что не уберёг сына, не нашёл убедительный слов…
Двадцать дней пробыл Митя с друзьями в Советском Союзе… Пока решалась судьба перебежчиков, их, искателей интересной жизни, привлекли к общественно-полезному труду – пилить дрова на нужды погранзаставы. Митя пообщался с пограничниками, поговорил с местными жителями. Воочию увидел послевоенную колхозную деревню. А что она была? У колхозника в подворье коровёнка, с пяток овечек, пару свиней, одежонка самая примитивная. Разве сравнить даже с худшими хозяйствами в Драгоценке…
Но Мите повезло. Думаю, НКВД сбой дал, не достал чёрные списки на Кокушиных, из которых явствовало, что дядя перебежчика – Семён Фёдорович – восстание поднял в тридцать первом, родной брат Гавриил и двоюродный Прокопий уже в лагерях с клеймом «политические», там же в ГУЛАГе двоюродный брат Артём… А, может, изменилось отношение к перебежчикам? Китай зароптал, жалко стало: народ уходит, оголяется приграничный район, если все побегут, кто будет держать северные территории. Дмитрия и его товарищей наладили пограничники обратно в Маньчжурию: идите вон, и чтоб больше вас не видели. После них так со многими поступали.
А за месяц до Мити наш двоюродный брат Николай Иннокентьевич, двадцать шестого года рождения, Прокопия родной брат, убежал за Аргунь. Я о нём уже говорил, его не отпустили обратно, но и дали всего три года, только за переход границы. Отсидел и жил после лагеря в Красноярском крае. О нём мы узнали, когда приехали в Советский Союз. Писем посылать в Трёхречье из лагеря он даже с таким «детским» сроком не мог.
Всего ничего «гостил» наш Митя в Советском Союзе, но когда в 1954-м родители засобирались в Россию, категорически заявил:
– Ни за что!
Ругань стояла дома несколько дней, война шла на смерть. И отца отговаривал. Хотел в Австралию.
Митя потом (умер, Царствие ему Небесное, в 2007 году) говорил:
– Павлик, я пожалел вас, отцу было уже пятьдесят, а вас у него четверо, ты, самый старший, в седьмом классе, Гале всего два года. Как вы в нищей стране будете жить?
Патриотизм Митин рассеялся за несколько дней, что провёл на погранзаставе…
Ух, как он коммунистов материл, Ленина… Жил брат в Кургане. Сына воспитал. Был случай, работал Митя на мелькомбинате простым рабочим, образование-то всего четыре класса, и попал в медвытрезвитель. Это середина семидесятых. У Мити натура: как подопьёт – говорил во сне. По полночи мог ораторствовать. И не отдельными фразами, нет, чешет, как с трибуны, связанно, пространно… И всегда материл большевиков… Тема номер один в пьяном сне. Целые монологи произносил. Над ним частенько подшучивали по этому поводу. В трезвом состоянии молчун, что спросишь – односложно пробасит, зато во сне, после того как примет стакан другой водки, как пойдёт выговариваться, выплёскивать накипевшее. Ганя смеялся:
– Митя, ты сегодня ночью прямо как Ленин на броневике».
– Хоть кто, только не Ленин, – смущался и возмущался Митя.
Забрали его в вытрезвитель. Отметили мужики день мукомола (получку) да Митя не рассчитал силёнок, денёк был явно не в его пользу, и загремел в весёлое заведение. Как сам говорил:
– Впервые в жизни отметился в вытрезвоне.
И раззвенелся по своему пьяному обыкновению среди ночи. Во сне произнёс горячую антикоммунистическую речь, богато унавоженную матами. Особенно нажимал в адрес Владимира Ильича. И по соратникам его революционным прошёлся. Всем, не скупясь, поднёс по матушке и по батюшке. Как назло ни один сокамерник не проснулся, не толкнул в бок оратора: хватит базлаить, не мешай спать! Дрыхли на соседних койках мертвецким сном. Митя и разошёлся без тормозов.
Утром лейтенант вызывает:
– Ты чё это, мать твою, нёс ночью?
Митя тоже не дурак:
– Откуда знаю? Пьяный в драбадан, за что и сграбастали ваши!
– Да за такие слова мало на Колыму упечь!
Митя тупо бубнит:
– Ничего не знаю, мало ли что с пьяных глаз человек во сне намолотить может. Работаю хорошо, на Доске почёта второй срок вишу.
Отбрехался.
Но двадцать пять рублей лейтенант с него слупил сверх оплаты за предоставленные услуги. Восемьдесят было в карманах у Мити, четвертную за политическую неблагонадёжность лейтенант конфисковал в свой карман:
– В следующий раз думай, когда спишь.
Митя рублей сто пятьдесят получал – в копеечку влетела ему пламенная речь.
Пропастину из Кремля
Я раз в подпитии тоже, было дело, намолол. Срок бы не получил, не те стояли времена, но из института могли вытурить. Сначала из комсомола, а дальше автоматически из института. Учился на последнем курсе, приехал после каникул из Троебратного на неделю раньше, дома подзаработал деньжат, хотел в Омске ботинки да пальто на зиму купить. В институт заскочил и с Олегом Морозовым столкнулся нос к носу, из нашей группы парень. Олег из комитета комсомола выходит.
– О, Паша, привет!
– Привет!
Он на четыре года меня младше, я-то после армии в институт поступил. Никогда с Олегом близки не были, в одних компаниях не гуляли, тут предлагает:
– Слушай, у меня сегодня день рождения, пойдём ко мне отметим это дело. Родители уехали в дом отдыха в Чернолучье.
Купили водки, как сейчас помню, три рубля двенадцать копеек стоила. Я деньги даю, он:
– Нет-нет, ты мой гость!
Покупаю ему в качестве подарка килограмм самых дорогих шоколадных конфет. Жили Морозовы в центре, на набережной. Хорошая трёхкомнатная квартира. Мать, уезжая, борща Олегу наварила. По тарелке навернули под водочку. Колбаса, селёдка на столе.
После второй рюмки зацепились за политику. Меня понесло:
– Большевики воевали не за идею о всеобщем равенстве, а против России. Даже не против царя, а именно – против России!
Я знал это с детства, слышал, видел. Приехав в Советский Союз, на примере братьев, прошедших лагеря, понял окончательно. В армии много читал. Мне не нужен был ни Солженицын, никто. Олег талдычил, как по учебнику, о классовой борьбе, об угнетённых и угнетателях, социальной несправедливости. Я приводил примеры, как работала, воевала за Отечество моя родня, с каким сочувствием относились в Драгоценке к России. Прочитал ему строчки землячки Марины Чайкиной:
Там обычаи русские свято хранили –
В деревнях, вдоль прозрачных нетронутых рек.
И молился о благе великой России
В деревянных церквушках простой человек.
Вовсе не враги мы были Родине. И жили, как уже говорил, крестьянин с тридцатью головами скота считался малоимущим, он освобождался от поселковых налогов. Олег (Царствие ему Небесное, рано умер, до пенсии года три не дожил, молюсь о упокоении его души) горячо возражал, доказывал. У него дядя-инженер отсидел десять лет, в тридцать седьмом забрали.
– Ну и что, – кипятился на мои доводы Олег, – лес рубят, щепки летят!
Я в ответ пример дал, как в августе 1945-го, переправившись на амфибиях через Аргунь, в Драгоценку нагрянул СМЕРШ. Потом на «студебеккерах» стали увозить мужчин в Хайлар.
Олега ничем не пронять, раскричался:
– Они же в прошлом белогвардейцы, каратели! Уничтожали мирных жителей за сочувствие красным!
Но я-то знал не по книжкам, как сами красноармейцы (Гражданская война уже давно закончилась) зверствовали в сёлах Трёхречья. Почти все приграничные деревни по Хаулу снялись и ушли вглубь Трёхречья, не выдержав набегов карателей, не щадивших ни детей, ни женщин…
Собственно, Гражданская война давала о себе знать в Трёхречье и в двадцатые, и в тридцатые, и в сороковые годы. Японцы, придя в Маньчжурию, использовали белоказаков, засылали их со шпионскими и диверсионными целями в Советский Союз. Из-за Аргуни тоже приходили «гости». В Казахстане познакомился с земляком, дядей Андреем Фоминым. С сыном его Гошей нас призывали в армию. Они с Трёхречья, с деревни Верх-Урга. У дяди Андрея на лице с правой стороны на скуле страшная вмятина. На свадьбе в приграничной деревне Караванной гулял (было это в середине тридцатых), вдруг его вызвали. С ещё одним парнем вышел за ворота, а там трое с винтовками, коней под уздцы держат. В гражданское одеты.
Сразу не поняли парни, что к чему, подвыпившие, весёлые, пошли за теми… А потом допёрло до Фомина – их же не так просто ведут. Эти трое уже нетерпеливо гонят парней, в спину толкают: быстрей шевелите ногами. Фомин говорил, что его с кем-то спутали, не он был предметом акции, по ошибке схватили, хотя как-то обмолвился, что служил у атамана Григория Семёнова в Особом Маньчжурском отряде (или ОМО). Пусть не офицером, но к этому отряду у чекистов было рьяное отношение. А с другой стороны вопрос: почему он в сорок пятом в лагеря не попал, членов ОМО хватали одними из первых? Ведут Фомина на расстрел. Я его уже в солидном возрасте видел, когда ему за шестьдесят было. Могучий мужик, огромной силы, косая сажень в плечах. Он напарнику по расстрелу шепнул:
– Ты бери одного, я двоих зашибу.
Тот побоялся ввязаться в драку за освобождение, понадеялся – обойдётся. Фомин так не считал, без помощи товарища набросился на конвоиров. Красноармейцы попались крепкие. Сбили Фомина с ног, один в голову выстрелил. Полчелюсти снесло пулей. Нерешительного напарника Фомина следом уложили наповал, а Фомина посчитали убитым: голова – кровавое месиво, явно – готов. И торопились, вдруг из деревни прибегут на выстрелы. На лошадей вскочили и дёру. Фомин через какое-то время пришёл в себя, голова к дороге примёрзла. Отодрал, кое-как добрался до крайней избы. И выжил, народились дети.
С моим отцом они работали в Троебратном на станции, разгружали вагоны с углём. Однажды после смены пришли к нам, мама приготовила закуску, казаки выпили, Фомин начал рассказывать о себе. Да, забыл важную деталь – почему он, не сомневаясь, пошёл со свадьбы с этими тремя. Один из них был дальним родственником. Фомин с ним потом встречался. Ездил в Забайкалье в конце пятидесятых, родом был из Александровского Завода, там столкнулся с родственником. Посмеялись два казака, вспоминая кровавую стычку, этим и кончилась встреча. Фомина вылечил китаец, были среди них искусные лекари. Увечье осталось до смерти. Прожил он почти восемьдесят лет, шестьдесят из них с обезображенной половиной лица.
Про Фомина я Олегу не рассказывал, поведал другое. В 1929 году во время краткосрочного конфликта Китая с Советским Союзом (имел место такой) чекисты активизировались в Трёхречье и провели сразу несколько акций уничтожения казаков. Одна из них произошла в конце сентября 1929-го. Отряд красноармейцев переправился через Аргунь и двинулся в направлении деревни Тыныхэ, она стояла на речке с таким же названием. Это, собственно, уже не Трёхречье, ближе к Хайлару. Места малолюдные, деревень почти нет в округе. В Тыныхэ согнали всё мужское население, даже подростков старше двенадцати лет, вывели за деревню в распадок.
Основали Тыныхэ казаки, братья Николай Иванович и Семён Иванович Госьковы. В 1919 году они, уходя от Гражданской войны, от беспредела атаманщины (семёновцы, а они беспрерывно хозяйничали в Забайкалье с апреля 1918 года по октябрь 1920-го, – отбирали хлеб, скот, пороли крестьян, насильственно мобилизовали их в свои ряды, особенно зверствовали каратели) покинули Забайкалье и облюбовали место на речушке Тыныхэ. Начали строиться, к ним подтянулись другие казаки, бежавшие через Аргунь от белых и красных, от братоубийственной войны. Через десять лет, в 1929-м, в Тыныхэ было около восьмидесяти дворов. Хорошая деревня.
Аполлинария Ивановна Госькова, сестра основателей Тыныхэ, в тридцатые годы была замужем за моим дядей Иннокентием Фёдоровичем, лет пять жили они вместе в Драгоценке. При случае, расскажу подробнее, а в 1929 году она была замужем за Павлом Артемьевичем Баженовым. Тоже забайкальский казак, воевал в Первую мировую войну, насколько помню – на Кавказе. Жили крепко, одних дойных коров десятка три, лошадей запряжных не менее десяти, телята, быки, овец не одна сотня. Двое детей – Алёшке одиннадцать лет, Варваре десять. На Воздвижение Креста Господня, двадцать седьмого сентября, рано утром Аполлинария Ивановна поднялась коров доить. Идёт к ним через двор, глядь, по улице шагает свояк, младший брат мужа, тоже Павел Артемьевич. Уздечка в руках. В некоторых семьях забайкальских казаков двух сыновей называли одним и тем же именем. Не один раз встречал подобное. Для различия одного называли, к примеру, Большой Павел (как в нашем случае), другого – Малый Павел.
Аполлинария Ивановна спрашивает свояка:
– Куда, Малый, путь держишь спозаранку?
– За лошадьми. Спутал их за горой, а нужно в лес съездить.
Поговорили, Малый ушёл, Аполинария Ивановна начала коров доить и вдруг выстрелы. Да близко. Не где-то за деревней, совсем рядом.
В Тыныхэ вошли каратели. Стрельбу затеяли, дабы ошеломить жителей, давить на психику казаков. Опасались получить достойный отпор. Было у казаков оружие, мне рассказывал об этом двоюродный брат Виталий Иванович Патрин, в Австралии сейчас живёт, два раза гостил у меня в Омске. Его мать, Варвара, была замужем за моим родным дядей по маме – Иваном Петровичем Патриным. Виталий рассказывал, это он знал от бабушки, Аполлинарии Ивановны, что в Тыныхэ был тайник под сенником – целый арсенал оружия: станковый пулемёт, винтовки, карабины, гранаты. Окажись всё это в руках казаков Тыныхэ в то утро… Оружие прятали от китайских властей, запрещено было держать казакам при себе. Если б знать тогда… Не готовы были к такому повороту событий, не ожидали, что Советский Союз пришлёт карателей по их головы. Думали, отгремели братоубийственные бои, ушли в прошлое страсти Гражданской войны. Однако нет. Пламенный преобразователь России Лейба Давидович Троцкий-Бронштейн в том самом 1929 году был изгнан из страны, но призыв бывшего председателя реввоенсовета уничтожать казачество до самых корней не утратил своей актуальности. Ненавидела советская власть это сословие, люто ненавидело.
Стреляли каратели поначалу в воздух, грозно заявляя о себе…
Ускакать из деревни успели три казака и один тунгус. Убежали Инокентий Екимов, Андрей Бронников и ещё один казак. Стреляли по ним каратели, да повезло беглецам.
Командовал карательным отрядом Мойша Жуч. Человек тёмный. В Гражданскую служил у генерал-лейтенанта барона Унгерна. Барон крайне негативно относился к евреям, Жуч сумел чем-то покорить Унгерна. Карательные функции он выполнял и у бешеного барона. Был штабс-капитаном и начальником контрразведки. С карательным отрядом, набранным из бурят и монголов, уничтожал красных казаков. Жучу было всё равно красных или белых казаков рубить… Вытворял он со своим отрядом и такое: переодевались белые каратели в красных и нападали на деревни, дескать, вот что коммунисты делают – записывайтесь в Белую армию.
В 1921 году он переметнулся к красным. Есть версия, подтверждённая воспоминаниями свидетелей, что не командиру партизанского отряда Щетинкину монголы передали барона Унгерна (так сказать, в благодарность, что освободил их от китайцев), а Жуч ночью привёл конный отряд чекистов на китайскую станцию Чжалойнор, это в восьми верстах от границы, показал дом, в котором спал барон. Тот был схвачен и переправлен в Забайкалье, где был расстрелян. Поистине Жуч был сатанинской личностью. Не удивлюсь, если он служил сразу нескольким хозяевам. Жадный, жестокий, двуликий и хитрый. В двадцатые годы под видом белого офицера появлялся в Харбине, подолгу жил в Хайларе, его там многие хорошо знали, не представляя, что это за человек.
Кровавый поход в Трёхречье осенью 1929 года был тщательно рассчитан. Перед отрядом стояла задача углубиться от границы на чужую территорию более чем на сто пятьдесят километров. Причём так, чтобы китайские власти не узнали раньше времени о разбойном нападении. Местность в это время была относительно пустынна. Откочевали на юг баргуты, которые каждое лето пасли в Трёхречье свои стада. Поэтому не могли помешать отряду и оповестить власти о чужаках. Тех редких трёхреченцев, кто встречался по дороге, каратели уничтожали. Убили несколько казаков. Убили монгольского ламу, знакомого Жуча по службе у Унгера. Тот обрадовался встрече с однополчанином, однако «однополчанин» поспешил застрелить знакомца, дабы не наболтал лишнего, жену ламы, русскую женщину, каратели изнасиловали и зарубили шашкой. В отряд Жуч подбирал отъявленных истязателей и палачей, тех, кто давно был «подсажен», как на наркотики, на зверства, кто упивался чужими муками. Но были и не запятнанные карательными акциями. С отрядом шли забайкальские казаки-красноармейцы. Причём, родственники некоторых из них жили в Трёхречье. Красноармейцев нужно было инициировать в каратели, повязать кровью. Бандиты на одном из переходов захватили группу из девяти человек, среди них было пятеро детей, священник, муж с женой, возчик. Все были убиты, положены на подводу с маслом, которое местный житель вёз в Хайлар на продажу. Под подводой развели огонь, и несколько часов трупы горели в масле.
Женщину узнали по сохранившейся груди, священника по половине лица. У детей сгорело всё, их положили в один гроб. На девятерых понадобилось всего три гроба.
Мойша Жуч носился по Тыныхе на лошади с гранатой в руке, размахивал ею и кричал: «Выходите, не то гранату брошу!» Даже в Тыныхэ Жуч встретил знакомых по Хайлару, с ним столкнулась Клавдия Сергеевна Таскина, по мужу – Госькова. Была она дочерью Сергея Афанасьевича Таскина, выходца из казачьего сословия, депутата Государственной Думы II и IV созывов от Забайкалья. При белых в 1918 году был назначен управляющим Забайкальской областью. В январе 1920 года атаман Григорий Михайлович Семёнов создал в Чите Правительство Российской Восточной окраины, которое возглавил Таскин. Осенью 1920-го с семёновцами ушёл в Маньчжурию, жил в Харбине, потом недалеко от Тыныхэ, на станции Якэши. Его дочь Клавдия вышла замуж за троюродного брата Аполлинарии Ивановны – Ивана Матвеевича Госькова.
Бандиты выгоняли жителей из домов и собирали в центре посёлка.
В заместителях у Жуча в той операции был Клавдий Топорков. В Тыныхэ жила его сестра. Он прискакал к ней, сказал, чтобы спасала себя и детей. Сестра стала молить Клавдия не трогать мужа. Клавдий зло повторил, чтобы спасала себя, зятя спасти не сможет, иначе самого прикончат, бросил отрез материала (из награбленного) и ускакал.
И всё же что-то взыграло в Топоркове, что-то оставалось человеческое, подлетел к Жучу, осадил коня, потребовал:
– Оставим женщин и детей!
Жуч сверкнул глазами, заорал:
– Приказ – от мала до велика!
Каратели согнали жителей посёлка к срубу строящегося маслодельного завода. Это был третий маслодельный в Тыныхэ, два уже работали, молока в селе надаивали много, били масло и отправляли его в ближайшие города, что стояли по линии КВЖД, в тот же Хайлар, и даже в Харбин. Трёхреченское масло считалось лучшим в Китае.
Казаки, оставшиеся в живых, рассказали о том споре командира и его заместителя. Живыми остались Подкорытов, дед Волгин, сын Аполлинарии Ивановны Алёша, а Иван Матвеевич Госьков умер в больнице и ещё один казак… Топорков повторил:
– Я сказал: оставим женщин и детей!
Жуч не соглашался.
Топорков с перекошенным лицом схватился за гранату, что висела на поясе:
– А я говорю тебе – оставим!
– Ты пожалеешь об этом! – сузил глаза Жуч. – Ой, пожалеешь!
В конце тридцатых Топоркова расстреляли как врага народа.
Каратели оттеснили женщин от казаков и подростков и повели колонной за деревню. Якобы на сход.
Первым из жителей Тыныхэ от рук бандитов погиб Павел Малый, свояк Аполлинарии Ивановны. Он столкнулся с карателями, когда пошёл за конём. Пулю на него не стали тратить, дабы не встревожить раньше времени деревню выстрелами, а задушили. Иезуитским способом, используя его же уздечку. Из повода сделали петлю и накинули на шею, вторым концом связали руки и ноги со спины и подтянули к голове – получилось, будто тетиву лука натянули. И бросили – души себя, казак сам… Несчастный всячески старался ослабить натяжение петли, вертелся на животе, боку… Ногтей не осталось – выломал. Траву в круге диаметром метра четыре выбил до земли…
Согнали казаков к срубу маслодельного завода (созывали якобы на сход) и повели за околицу.
Аполлинария Ивановна стояла у ворот, колонна (было в ней около восьмидесяти человек, включая нескольких детей) проходила мимо, муж, Павел Иванович (Большой) попросил у неё рукавицы, утро выдалось холодным. Она метнулась во двор, голыши из овчины (мехом вовнутрь) лежали в сенях на ларе, схватила их, догнала колонну и, не обращая внимания на окрик карателя, сунула мужу. Пошла рядом с ним, её тут же грубо отогнал всадник с винтовкой:
– Уйди, баба!
Сына не увидела. Считала, не может быть с мужиками, это потом уже хватилась…
Позади всех шли раненый Семён Иванович Госьков (пытался бежать, услышав стрельбу, вскочил на коня, но его заметили и подстрелили) и дед Мунгалов на костылях, ногу потерял на Первой мировой. Они начали отставать. Семён Иванович обессилел от потери крови, ему стало дурно, дед Мунгалов попытался подставить своё плечо, дескать, держись за меня, как-нибудь на трёх ногах доковыляем. Оба упали, с трудом поднялись. Колонна уходила всё дальше и дальше за деревню, дорога заворачивала за гору. Жуч зло приказал одному из карателей прикончить отставших. Тот повернул коня, подскочил к немощным казакам, раз да другой сверкнул острый клинок…
Казаки поняли, хорошего ждать нечего. Во главе колонны шёл полковник Аникин, позади – георгиевский кавалер Алексей Николаевич Госьков, двоюродный брат Аполлинарии Ивановны. Казаки начали перешёптываться, дескать, на сходку не похоже… Каратели шумнули – «не разговаривать», тем не менее Аникиев передал: он скомандует впередиидущим, а Госьков – тем, кто сзади… Сопровождало колонну человек тридцать карателей, на лошадях, с винтовками. Накинься казаки, навались разом, сдёрнули бы с сёдел… В середине колонны шёл старик Волгин, тот по-стариковски заосторожничал, мол, нас ведь на сходку звали. Его слова внесли сомнения среди казаков. Они прекрасно понимали, с голыми руками кидаться на вооружённых, значит, наверняка многие погибнут, даже если получится одолеть карателей. А уж если те возьмут верх… Замешательство обернулось потерей короткого момента для атаки… За деревней, за поворотом дороги начиналась Крестная падь, в самом её начале, в верхней части, ждала группа карателей с пулемётами.