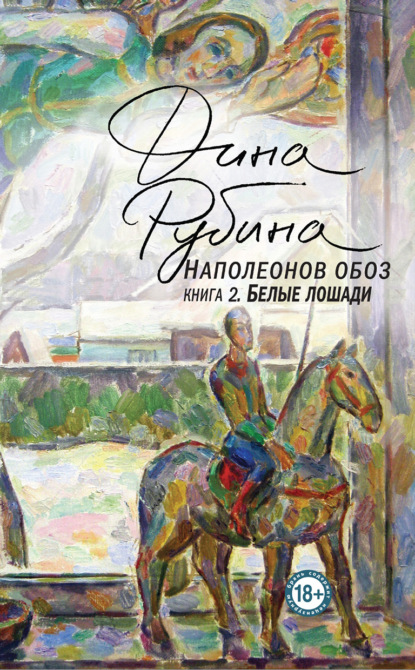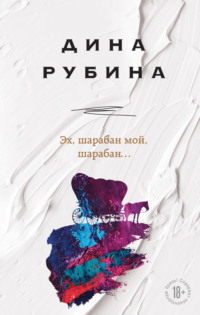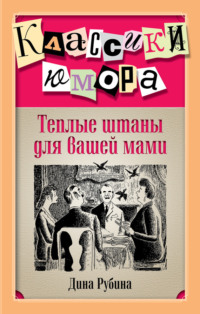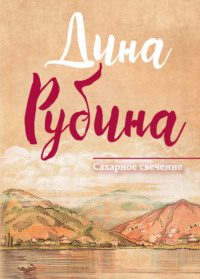Полная версия
Наполеонов обоз. Книга 3. Ангельский рожок
– Пожалуй, заплатит.
– Ну! Вода же чистая, глубокая. У нас в колодце водичка очень вкусная. Не ржавеет, не плесневеет, не хмурится, – настоящая народная живая вода.
Изюм, когда хочет убедить слушателей, и сам вдохновляется, расправляет свои роскошные оперные брови, рубит ладонью воздух на кубики, аргументами так и сыплет… В сущности, он похож на лунатика, который гуляет по коньку крыши – бесстрашно, бездумно, под магическим светом луны. Потом спроси у него – как получилось, что влип в очередной майонезный цех, он и сам растеряется, не понимая ни черта. Это всё натура проклятая – артистическая. Изюм просто в образ входит, и его, как лунатика, не дай бог окликнуть или оплеуху залепить: загремит с крыши как пить дать, не опомнится.
– А для православных можно у батюшки бутыль освятить, с отпущением грехов… Дайте же мне сотнягу за эту благородную купель! Что я, за месяц не нахреначу на десять тыщ с молебнами? Это ж, ты вдумайся, какое ноу-халяу! Да отсюда люди будут святую воду в бутылочках возить, как из Лурда – помнишь, Петровна, ты мне детектив привозила, убийство в Лурде?
– Мысль… плодотворная, – подтвердила Петровна с некоторым сомнением в голосе.
– Ну! Я с докладом к Гнилухину: так и так, Петруха, есть, говорю, бизнес-проект, готов обсудить деловое партнёрство с тайной исповеди. И что ты думаешь? Вчера узнаю, что они закупили кулера с помпами, а мои материальные интересы опять безжалостно попраны… Блинадзе! Опять меня объегорили, идею грабанули. Что ещё им отдать, акулам мирового капитала, светящиеся тапки, мою заветную мечту, вершину научной мысли? Так те мгновенно всюду появятся, где только не хошь.
– А эти самые тапки… – осторожно произнёс Аристарх, обращаясь, скорее, к Надежде, – я второй день о них слышу. Они вроде такого символа, да?
– И не только тапки! – горячо воскликнул Изюм. – Можно ведь и стульчак этими нитками обшить, в темноте мужику ловчее целиться! Тут в целом бизнес-идея грандиозная! – Он подался к Надежде: – Петровна! Это не у тебя я швейную машинку видал? Нет? Жалко… Я ходил, думал: блинович, у кого я видал машинку? На ней же можно эти тапки прострачивать. Нет? Тогда шило купи! Я-то умею им пользоваться. Я эти твои экспериментальные тапки шилом простегаю. А нитка, то вообще ерунда! В интернете её много фирм продают. Она разных цветов и разной толщины, стоит копейки. И принцип работы прост весьма: днём она заряжается – вон, поставь тапки на подоконник и вдохновляйся, – а ночью свет отдает, как далёкая звезда…
Минут сорок уже, как понял Изюм, что пора уходить, ибо заметил, что Сашок правой рукой то хлеб щиплет, то дольку огурца в рот положит, а левую под столом держит на хозяйской коленке, просто так спокойно, уверенно держит, и ясно, кому это колено теперь принадлежит.
Три раза уже заводил Изюм протяжное: «Ох-хо-хо-ошеньки… Ладно, пойду». И всё не уходил. Не отпускало его… Странная штука: было в этих двоих, даже спокойно сидящих, что-то багряно-тревожное и такое полное, будто вчера соединились разодранные когда-то половинки одной жизни, и вот сидит эта жизнь, так жадно, так страстно и мгновенно сросшись в единое целое, пылает огненным сросшимся швом, и вроде больше ничего ей не нужно, а сосед, брехун… ну, пусть его болтает. Может, он даже как-то украшает их новую полную жизнь.
Вот, значит, как, думал Изюм, вот как оно бывает: доплёлся бродяга безродный, нога за ногу, подняв повыше ворот. А его тут, как в сказке, всю жизнь царица ждёт, да в каком тереме ждёт – ты ж оглянись, чувак, какие чудеса вокруг! Одна только печь, облицованная знаменитой московской керамисткой, со скульптурной группой наверху: Пушкин с Лукичом, обнявшись, вдаль глядят, – одна эта печь чего стоит! Ты разгляди, чувак, в старинной горке чудеса императорского фарфора, сквозь три столетия пронесённые из Санкт-Петербурга через Ленинград, и вновь в Санкт-Петербург! Ты разгляди эту хрупкую синеву, эту невесомость, ты ощути, как едва ли не в воздухе парит прозрачная чашечка, сквозь которую что кофе, что чай, что компот мерцают золотым слитком очарованной мечты!
Нет, ничего ему, кроме неё самой, не нужно. Сидит, чувак, хлебушек по-тюремному крошит, держит руку на дорогом ему колене. И должно быть, ждёт не дождётся, чтобы Изюм отвалил…
– Не-ет, заниматься каким-нибудь строительством-фигительством… – это не моё. Пора ставить жизнь согласно генеральному замыслу. Пора думать о творчестве на коммерческой основе.
– Изюм, ты вроде не пил, но что-т тебя в открытое море понесло, – терпеливо заметила Петровна. – Бери вон ещё сардельку, она очень творческая.
– У меня какой план был? Вот думаю: ещё две зарплаты, и куплю себе станочек по нанесению шедевров на стекло, а ещё станочек для холодной ковки. И это будут не просто слова, а конкретное творчество, наконец. Понимаешь? Ты веришь в меня? Принесу тебе, скажу: «Смотри, Петровна! Вот поднос я сделал: залитый поднос, два подстаканника». Тебе ж приятно будет, что это лично я сделал, а не купил анонимно в магазине?
– Ну? Где же?
– Да погоди ты, Петровна… куда мчишься. Дальше с этим надо что-то делать, реализовать продукцию, строить на своём участке студию, открывать галерею. Можно и центр искусств засандалить…
– Нью-Васюки, – подал голос Сашок.
– Что?
– Ничего.
– Ага, вот, к Витьке, «Неоновому мальчику», за щенками много народу ездит. Можно договориться на акцию: покупаешь щенка, получаешь бонус: поднос с подстаканниками. Круто? С другой стороны, Витька мгновенно потребует доля́, а я ему тогда: ты мне сначала за Дед Мороза – доля́. Доля́ за доля́… – и пошёл ты на хер, и не ходи сюда боле. О! Я этот сценарий очень даже предвижу! Я это прекрасно мысленно рисую…
Надежда видела, что на Аристарха речуги Изюма особо развлекательного впечатления не производят, что он, пожалуй, наслушался этого клоуна по самое не могу; уже подумывала завершить «извинительное», как мысленно его определила, застолье, но неожиданно для самой себя проговорила:
– Изюмка, ну хватит бодягу лить. Слышь, а что твой архив – далёко? – повернулась к Аристарху, сказала: – Рожи там совершенно изумительные, не пожалеешь! – И к Изюму: – Тащи его сюда на сладкое, а я чай заварю.
Она набрала воду в чайник, включила его, потянулась за чашками к навесному шкафчику. Аристарх смотрел на неё не отрываясь. Так шли её длинным ногам синие вельветовые джинсы и просторная блуза лавандового цвета, и вообще, чёрт подери, так ей шла полнота! Вот сейчас он по-настоящему понял толстовское описание внешности Анны Карениной, которое в юности его, пацана, озадачивало и даже шокировало: Анна, писал Толстой, была «полной, но грациозной». Как это возможно, думал. В их посёлке было видимо-невидимо толстущих баб, и все они настолько отличались от мамы – вот уж кто действительно был грациозной и вовсе не полной. Вот мама, думал, очень подошла бы к образу Анны.
Сташек пропускал толстовские приземистые описания, считая их «стариковскими» и, прощая с натяжечкой, скакал по страницам дальше, дальше – до самого поезда, до трагического Вронского, уезжавшего на войну… Видимо, надо было пожить, ну не столько, сколько Толстой, а вот как раз до вчерашнего вечера, чтобы ощутить это описание как пленительное, манящее, чуть ли не обнажённо чувственное. Сейчас он уже не вспоминал и не представлял, да и не хотел бы представить Дылду иной, чем вот такой: плавной, манящей, ладной и очень притом подвижной и ловкой.
Очевидно, и вполне объяснимо, что трепливый соседушка по уши в неё влюблён. И охота же ей сидеть и слушать этого шалтая-болтая! Вот к чему им сейчас его идиотский «архив», какого лешего, когда им обоим надо бы денька три помолчать, просто стоя у окна в обнимку, как стояли сегодня утром оба с заплаканными лицами – после её-то рассказа. Постоять, глаза в глаза, отирая ладонями скулы друг другу, вмещая все потерянные годы в одно – отныне – бесконечное объятие.
Только он знал, что не выйдет, не выйдет, приехали на конечную, – хотя она пока и не догадывается, бедная…
– Ты не злишься? – мельком оглянувшись, спросила она, ссыпая из ладони заварку в пузатый красно-золотой чайник. – Что-то супишься… Потерпи. Это он от нервов такой растерянный и болтливый. Изюм – человек хороший, но несчастный и одинокий.
– Просто пока не вижу, как мы можем сделать его счастливым. Разве что шило для тапок подарить.
– Ну, не будь же сволочью, – ласково заметила она, и тут примчался Изюм со своим архивом, утрамбованным в коричневый докторский портфель годов пятидесятых прошлого столетия. Влетел – деятельный, раззадоренный приглашением Надежды Петровны. Осторожно отодвинув чашки, вывалил прямо на скатерть богатое и разнообразное содержимое портфеля: грамоты, старые письма, чёрно-белые фотографии, визитки и газетные вырезки. Вот не было печали…
– Ты погоди, не нужна тут куча-мала! – Надежда пыталась ввести энтузиазм Изюма в какое-то повествовательное русло. – Ты сначала мамку с литовцем изобрази, где та фотка, что они сидят на фоне Версальского замка с выпученными глазами, а у мамки банты на плечах, из бархатных занавесок пошиты, и понизу такая изумительная вязь с ошибкой: вместо «Фотоателье Самуил Жуппер» – красиво так: «…Жоппер». Или про интернат. Ну? Где тот выпуск интернатский, группа дебилов?
А только хрен Изюма собьёшь с курса, заданного самому себе.
– Не, Петровна, я понял, про что тебе ещё не рассказывал! Я про Алика Бангладеша ни разу не вспомнил! Это ж мы с ним майонезный цех забурили.
Бангладеш, еврейский хохол. Он и не скрывал. Но странный был еврей: блондин, худой и после первой рюмки – гуляй, рванина! Фамилия у него, конечно, не Бангладеш была, а Зильбер, и отчество какое-то дикое: Фердинандыч, но он, понимаешь, чуть не единственный в Москве знал бенгальский язык, потому как родом был из КГБ и говорил, что наладит торговлю с кем хошь, а с ихней Народной Республикой Бангладеш – как два пальца. То была птица высокого полёта. Какие дела проворачивал! У него пять фур выехало – и пять фур не приехало.
Во, смотри, фотка: мы с ним на Ленинских горах с пивом. Там пивнуха была классная на углу. Главное, он знал Махмуда Эсамбаева – помнишь, я тебе рассказывал: танцующий горец? А старик Эсамбаев познакомил его со смотрящими от Иосифа Давыдовича, откуда к нам и пришла крыша: Савва Джумаев… А потом, когда рухнуло всё, потому как в котельной лопнули батареи, и огромная партия майонеза, три фуры, оказалась прокисшей, тогда всё и пошло пухом и прахом по окрестным городам и сёлам. Тогда Алик-то мой, Бангладеш, съездил в Грозный к Савве, и тот ему конкретно сказал: «У меня денег нет», – и посоветовал пойти к Иосифу Давыдовичу. Ну, сам-то Бангладеш пойти не рискнул, но через посредничкá рухнул в ноги. Ни Алик, ни я лица Иосифа Давыдовича не видели, но посредничόк ходил-сновал, и тот вроде передал: «Ты коммерсант, ты и думай, где деньги взять». Типа знать не знаю, ведать не ведаю. Сумма-то была охеренная. Мы даже хотели квартиру продавать. Но выкрутились: потом я фанеркой, лесом подторговывал. Я даже ценные бумаги продавал. В общем, выполз из майонезного дурмана пришибленный, но живой… Удалось ещё спасти партию шпротного паштета, целую машину. Ну, я затащил эту партию в квартиру к другу с женой – где-то же надо было всё это сгрузить. Жрите, говорю, сколько хотите, продавайте, дарите на Пасху, на Рождество, на Женский день… Хотя – ну сколько можно сожрать шпротного паштета? Тем боле там иногда попадались глаза… Эх, какую книгу можно было бы написать! Бравый солдат Швейк отдыхает. Но когда я ручку беру, мысли останавливаются. Вот спроси у Нины, есть ли у них сейчас в продаже «Доктор Коккер»? – специи молотые из Израиля. Я о чём, сейчас объясню: вот, подогнал мне Бангладеш два вагона риса, чтобы я продал дешевле всех на десять процентов. Это револьверная поставка. Дают фуру в день, надо перефасовать, развести по базам и магазинам. Тут у меня почему-то и всплывает бравый солдат Швейк, хотя я книжку не читал. А что у него было там с револьверными поставками? Ничего не было?.. О! Понял, почему Швейк всё время всплывает: у его командира был большой револьвер – вот в чём суть!
– Что-то у меня башка разболелась, – сказал Аристарх Надежде. – Пойду наверх, пожалуй…
– Стой, стой! – крикнула она, блестя глазами. – Изюм, ну что за херню ты понёс про Кобзона, про Швейка, кому это интересно! В жопу твой майонезный цех. Ты лучше про армию, как золото намывал целыми днями и как тебя прапор, сука, грабанул. Ну-к, покажи ту доблестную статейку в газете, где вы сняты с ним в момент, когда он тебе только-только морду начистил, и вдруг к вам привезли корреспондента местной газеты, и вы оба застыли-вытянулись, а фотограф вас щёлкнул с этими обалдевшими харями… Ну, где эта газета, что за бестолковщина! Давай армейский архив. Ты вообразить не в состоянии эту парочку на фотке! – заверила она Аристарха. – Сейчас сдохнешь от хохота.
– Он не только меня ограбил, – заметил Изюм беззлобно, – он спиздил бункерный ксерокс. Ты знаешь, что такое бункерный ксерокс, Петровна? Он размером с твою веранду, и печатает тыщу плакатов в минуту. Кому нужно печатать «Родина-мать зовёт» с такой скоростью?
Газета «Пограничник Азербайджана», сложенная вчетверо, пожелтелая и уже махристая на сгибах, довольно быстро нашлась в серой папке, на которой рукой Изюма чёрным фломастером печатными буквами было начертано: «МолАдАсть
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.