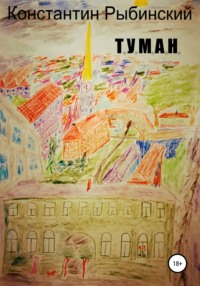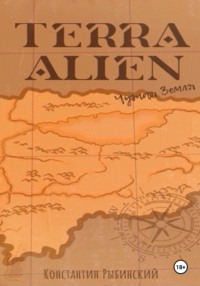Полная версия
Для метро

Константин Рыбинский
Для метро
Только люди, которые мне нравятся,
которых я люблю,
вот они – моя последняя родина.
Д. Фаулз. «Волхв»
Часть 1. Листопад
Метро. Стучат колёса, шипит воздух, люди уходят – приходят, не задерживаясь в памяти, как смазанные узоры дьявольского калейдоскопа. Ты читаешь. Я пишу. Я рядом, просто потому, что я всегда с тобой.
Ты всегда читаешь здесь. Каждый день ты равнодушным удавом заглатываешь несколько километров печатного текста. Шипит воздух. Объявляют станцию. Шипит воздух, изменяется гравитация, стучат колёса. Ты читаешь. Я пишу. Это – метро.
В этих подземельях, кем бы ты ни был, ты – жертва. Ещё до турникета мы уже решили, куда и как ты едешь. Так что сиди и читай.
Знаешь, что мы сейчас проезжаем? Туннель, опять туннель.… Сейчас, пока мы здесь, не важно, Москва это, Нью-Йорк или Париж.
Ты ведь всё о них знаешь. Там везде – метро, где ослепительное сияние станций лишь оттеняет безнадёжную тьму перегонов, во время которых ты цепляешься за меня. А я не брошу тебя.
Я всегда буду с тобой.
Там, наверху, идёт дождь. Ты знаешь, как это бывает. Звук, запах.…Даже цвет. Ты всё уже знаешь. Скучно рассказывать. Хотя….
У каждого за пазухой есть камень. Обычно, его приберегают для кого-то, а меня он тянет вниз. Может быть, вышвырнуть его было бы вернее всего, но жаль расставаться, всё время кажется, что именно этого-то во мне и будет не доставать.
У меня такой камень – Прага, и я его никому не отдам.
* * *
В Праге всегда идёшь или вверх, или вниз – удивительно холмистый город. Мы молча шли вниз по мощёной серым булыжником улице, где едва ли разъедутся два автомобиля, окажись они тут.
Мороженое ощущалось смесью советского пломбира, заграничной мечты, плюс терпкий запах опавших листьев, шум в голове от вчерашней водки, и всё наше безумие, сплетающее пальцы, и терзающее плоть. И дождь. Ноябрь в Праге – это почти всегда дождь.
– Ты первый мужчина в моей жизни, который ест мороженое под дождём.
Вечер, темно, горят жёлтыми кругами водяной пыли старинные фонари. Прохожих почти нет. Стук твоих каблуков. А я всегда хожу бесшумно.
– Один, – добавила.
Дождь моросил уже третий день – город стал серым, мокрым, но странно уютным. Скорее всего, потому что с тобой.
– Дай!
Ты стояла передо мной, протянув руку, глядя снизу вверх, как ребёнок, ищущий повод расплакаться. Чёрный короткий плащ намок и блестел, с капюшона частыми каплями стекала вода.
Я передал тебе золотистый вафельный рожок. Улыбнулся чеширской улыбкой. Ты бросила в ответ мрачный взгляд исподлобья, впилась в пломбир, но сразу отвернулась, прижала красную варежку к губам: у тебя заныли зубы – и виноват в этом, конечно же, я.
– Пойдём в кафе или в бар, перекусим и согреемся! – предложил я как можно мягче. Мне показалось, ты о чём-то не договариваешь, и это злит тебя.
Ты обернулась, посмотрела, наклонив голову, куда-то поверх меня, на фонарь, потом протянула мне руку:
– Пойдём.
Если ты рядом, я ничего не знаю о следующей секунде. С самого начала, которое недавно, свежо и ещё не запомнилось, потому что ему рано становиться памятью.
Мы спустились в небольшой погребок.
* * *
В метро гулял тёплый и сухой ветер. После долгой прогулки по центру, оставившей после себя холодную оторопь, это утешало.
Друзья, конечно, знали, что говорили – не стоило ехать в Прагу в ноябре. Сыро, холодно.... Но я не мог больше ждать. Сделав шаг, я наступал себе на пятку, сказанное слово предварялось его не отзвучавшим эхом, любовь стала тенью тени, отброшенной тенью…. Алкоголь помогал плохо – спасая от одного тоскливого вечера, он дарил взамен три безнадёжных дня, полных страха и слабости. Случайные женщины отталкивали пошлостью, а неслучайные не встречались. Тоска поднималась выше ватерлинии, я начинал захлёбываться.
В детстве я любил нырять в море, где солёная вода прозрачна до степени обмана, когда невозможно определить глубину и расстояние. Я подолгу плавал у скал, поросших лохмотьями буро-зелёных водорослей, ожидая, что за очередным выступом меня подстерегает что-то огромное и хищное. Но солнечный свет под водой терял линейность, дробясь, искривляясь, и обещая, что ничего плохого со мной здесь случиться просто не может. Ведь всё прекрасно – и море, и я, прошлое так мало, а будущее оглушающе огромно, и там, за скалами на берегу родители, которые меня любят и ждут.
Я ничего не знал об этом мире тогда. Тем более, не знаю теперь. Кто руководит моими поступками, заставляя повернуть налево, когда я планировал направо? Кто отправляет целые народы в бездну войн? Почему человек живёт себе спокойно годами, а потом ни с того, ни с сего срывается с места и отбывает к новой жизни? Думаю, если кто скажет, что знает – обязательно соврёт. Но, чёрт возьми, должно быть что-то, что заставило меня нырнуть за камнем, что лежал подо мной на неизвестной глубине.
Рывок – стало холодно, совсем не по-летнему. Заложило уши. Ещё. Ещё холоднее. Терпимо. Ещё чуть-чуть…. Вот оно: оплывшие грани ласкают руку. Теперь назад.
Вокруг струится лёгкое, ощутимое кожей, сияние, за ним – пугающий голубой сумрак, выше – рукой подать – отбрасывающее вверх и вниз сотни ослепительных бликов мягко волнующееся текучее зеркало.…
Добраться до него я никак не мог. Казалось, один лягушачий толчок должен выбросить меня на поверхность, но раз за разом я оставался под водой. Нужно вдохнуть.
Пусть здесь. Пусть так.
Значит, всё.
Всё!
Оторванным поплавком я выскочил на поверхность, и воздух оказался самым вкусным лакомством.
Теперь я был взрослым. Я снова тонул. Вот только не знал, куда плыть.
Кстати, тот камень со дна – он высох и оказался обычным булыжником. Досадно было бы подохнуть из-за него. А из-за чего нет? Пожалуй, теперь уже всё равно.
«Пршишти станица – Староместска» – пропел женский голос, искалеченный динамиком.
Мне всегда неуютно находиться в замкнутом пространстве с незнакомыми людьми. Так и тянет с каждым поздороваться и тяпнуть стременную! Проверенно – не работает, увы. В большинстве своём люди – такие же, как ты сам: совершенно не желают сокращать дистанцию. Да и слава Богу.
На Староместской зашла невысокая, стройная девушка, в синих джинсах, чёрном пальто. На шее болтался сбившийся вязаный шарф в цвет штанов. Пройдя по вагону, встала передо мной. Я покосился на свободное место рядом. Состав тронулся, она толкнула меня коленом, я поднял глаза.
– Привет!
– Привет.
– Я даже не удивлена, что ты русский. Турист?
– Нет. Я живу здесь. Теперь.
– Давно?
– С месяц.
– Значит, почти турист! – усмехнулась она.
– Ну, не скажи! Ты сама где была?! Карлов мост, Вышеград, Староместская???
– Не уверена.
Я чуть подвинулся:
– Присаживайся.
Она смотрела на меня сверху вниз из-под копны светло-русых волос, рассыпавшихся по лицу.
– Ты не маньяк?
– Не уверен.
– Тогда ладно, – она буквально обрушилась рядом.
Вагон чуть покачивался, напротив сидели гордые чешские старушки.
– Ты покажешь мне город, как знаешь его ты?
– Мы на «ты»?
– А разве нет? – ты искренне удивилась.
– Пожалуй, да.
– Что «да»?
Я рассмеялся:
– И покажу, и на «ты».
– Вот и хорошо. Ненавижу условности.
Расстояния между станциями в Праге небольшие. Очень скоро чарующий голос безвестной чешки объявил: «Укончите просим выступ а наступ, двержи се завирае. Пршишти станица – Музеум».
– Тогда рассиживаться нам особо некогда. Даже поговорить пока толком не успеем. Сейчас прыгаем на «линку с» и вперёд!
Вот и Музеум.
– Пошли, – я встал, подал тебе руку. Твоя ладонь оказалась прохладной и слегка влажной.
Мы перешли на Музеум ветки С и остановились на островке перрона. Оглядевшись, ты заметила:
– Отвратительная станция!
– Трудно поспорить, – нас окружал гранитный склеп.
– Плохо, когда архитектор не любит людей.
– А ты любишь? – слегка капризно, но без намёка на кокетство.
– Я не строю станций метро в самом волшебном городе на земле!
– Забавно, – ты рассмеялась, и сразу подошёл поезд, отмеченный красной полосой вдоль всего состава.
Очень просто: красная полоса – красная ветка.
Сели рядом и молчим.
– Что ты читаешь?
– Кастанеду.
– Неожиданно! Странный выбор для девушки. Практикуешь?
– Что за примитивный мачизм? А где мне найти дона Хуана, Тем более, дона Хенаро, когда вокруг одни крокодилы? Так, для расширения кругозора.
– Впервые слышу это от женщины. Я имею в виду «Кастанеду». Большинство уверено, что это слово означает «погремушки».
– Тебе не везло с женщинами…. Но месяц назад и я назвала бы что-нибудь другое.
– Вовремя мы встретились.… А что было бы ответом месяц назад?
Ты на секунду задумалась.
– По-моему, тогда был Гессе «Степной волк». Или Фаулз «Волхв».
– Снимаю шляпу, – я склонил голову.
Ты удивила меня. Удивляла и после. И сейчас удивляешь.
– А ты что читаешь?
– Довлатов. Мне, знаешь ли, ко времени.
– Мастер блестящих банальностей, кажется?
– Он не обижался на это. Здесь всё банально.
– Его приятель Бродский всё-таки сумел как-то…
– Не знаком.
– С ним сложно познакомиться! Но пишет – гениально:
Ты поскачешь во мраке по бескрайним холодным холмам
вдоль берёзовых рощ, отбежавших во тьме, к треугольным домам,
вдоль оврагов пустых, по замёрзшей траве, по песчаному дну,
освещённый луной, и её замечая одну 1
Ты читала стихи громко, нисколько не смущаясь посторонними, а вот я почувствовал себя не в своей тарелке. Стало неловко, как будто меня публично втянули во что-то постыдное.
– Каково? – ты вела себя настолько естественно, что я со своей неловкостью ощутил себя провинциальным чурбаном.
– Прекрасные стихи.
В самом деле, почему материться на людях удобно, а говорить о Бродском – нет?
Так мы и добрались до «Розтили», станции в конце красной ветки на восточной окраине Праги. Выйдя, ты опять огляделась.
– Как в подземном переходе. Здесь все станции такие … некрасивые?
– До московских им, конечно, далеко. Большинство – невзрачны, некоторые – просто убоги. Но есть такие, каких больше нет нигде – Райска заграда, например.
– Съездим, посмотрим?
– Сейчас?
– Ну, да!
– Но ты же хотела увидеть Прагу, как её вижу я! Мне казалось, неплохо бы выпить за знакомство в месте, где не услышишь криков «зерр гутт!». Да и перекусить слегка.
– Ах, да…,– ты поморщилась. Задумалась, наклонив голову. В такие минуты ты всегда не здесь, можешь даже не услышать, что тебе говорят. Иногда это жутко раздражает. – Давай пиво…. Но ведь ещё рано, мы можем успеть, правда?
– Успеем, конечно…. Но я совсем не ожидал такого горячего интереса к пражскому метрополитену!
– Это плохо?
– Это странно!
– Так это плохо? – ты очень серьёзно посмотрела мне в глаза. Я рассмеялся:
– Нет, не плохо, не плохо! – захотелось обнять тебя, ты показалась такой одинокой, так затравленно смотрела на меня снизу…. Но я не решился, – Всё успеем, не бойся!
– Ты – молодец, – улыбнулась ты.
– Почему?
– Нипочему. Пойдём?
* * *
Она жила в большом и скучном городе на востоке, где зимой стояли полярные морозы, а хлёсткие вьюги дочиста вылизывали пустые улицы.
В детстве ей нравилось бороться с жестоким, сбивающим с ног северным ветром, несущим миллионы ледяных игл, коловших лицо. Маленькая и нелепая в своей мохнатой чёрной шубке из чебурашки, она в одиночку шла против него, наклоняясь к замёрзшей земле. Крошечный подвиг в большом загадочном мире. А потом было здорово прийти домой небольшим сугробом, долго и безуспешно чистить одежду, оставляя в подъезде тёмные лужицы воды, тереть онемевшие щёки колючими варежками, прищурившись, смотреть на лампу, сквозь ресницы, усыпанные бриллиантами растаявших снежинок. Затем, в тёплой кухне, на покрытом цветастой скатертью столе у раскалённой батареи, её ждал горячий ароматный чай с тягучим мёдом и колкими сушками. За решёткой вентиляции завывал ветер, в окно билась вьюга – она представляла себя в старой немецкой сказке.
Ещё лучше, если возвращаться можно не домой, а к бабушке. Она и дед жили недалеко, через пару узких улиц и заснеженный двор, в однокомнатной квартире с маленькой кухней. Шкафы, кровать, кресло, посуда – абсолютно всё здесь было из времён, ушедших так давно, что как будто их и не существовало. В этом доме не шуршала страницами ни одна книга моложе двадцати лет. Даже запахи, витавшие здесь, больше нигде не встречались, словно мир вокруг изменился, забыв о двух стариках.
Дед, огромный и крепкий, нацепив на нос роговые очки, обычно вязал бесконечную рыбацкую сеть, сидя в белой майке и трико на стуле у балконной двери. Когда приходила любимая внучка, он бросал своё мистическое занятие, сильными руками поднимал её в воздух, прижимал к своей нестерпимо колючей щеке. Эта боль от щетины стала почему-то одним из самых сильных воспоминаний о нём, очень личным и тёплым.
Однако, долго возиться с детьми он не любил, вскоре вновь возвращался к своему плетению. Сети у него получались хорошие, прочные, ими ловили рыбу ещё очень долго.
Бабушка первым делом кормила её ужином, невзирая на желание внучки. Этот ритуал сделался настолько свят, что нарушить его не смогла бы даже внезапно начавшаяся термоядерная война, ожидаемая в те времена с минуты на минуту. Никаких изысков, никакого седла косули в белом вине, но сейчас многое можно было бы отдать за ту картошку с отварной треской, приправленной пахучим маслом и луковой стружкой. Бабушка, маленькая и ловкая женщина, умевшая делать десятки дел одновременно, рассказывала ей разные бывальщины, пела песни, читала стихи. Она не принадлежала высшему обществу, её университеты – 8 классов сельской вечерней школы и семьдесят лет жизни, вместившей в себя три войны, две социальных революции и бессчётное количество научно-технических прорывов. По её рассказам можно снимать кино.
– В 1916 году её старший брат, с которым они, после смерти родителей, как могли, тянули хозяйство, полюбил молоденькую дочь мельника. Та ответила взаимностью, старый весёлый мельник не возражал (он вообще был изрядный вольнодумец и почитывал всякое), они сыграли свадьбу, нарожали детей. Всё вполне могло закончиться пожелтевшими фотографиями почтенной пары на фоне картонного пейзажа в окружении взрослых внуков, если бы не соперник. Отвергнутый воздыхатель терпеливо дождался Гражданской войны, стал красным командиром, во главе конного отряда бодрым аллюром влетел в родную деревню, где расстрелял товарища во дворе его дома, под черёмухой, на глазах жены и детей. После чего ускакал продолжать борьбу за торжество мировой революции. Больше его не видели.
Ты чуть помолчала, помешивая обжигающий кофе.
–Как-то летом, навещая бабушку в деревне, я вскапывала огород недалеко от старого разросшегося дерева с чёрными ягодами, что росло под окнами. Звякнувший под лопатой осколок металла оказался ржавой стреляной гильзой от трёхлинейки. У меня до сих пор ощущение, что я слышу эхо выстрела. Другого её брата убили Белые.
– Страшные времена.
– Да. Но она не ожесточилась. Ни тогда, ни после.… Давай поужинаем!
Мы заказали баранину с запеченными овощами.
– Купи мне водки!
Я заказал 150 «Столичной» и два тёмного.
– Ого! «Ёрш»?
– Я не буду смешивать. Мы, ирландцы, пьём пиво с виски, но ты захотела водки….
– Так ты ирландец?
– Я и ирландец тоже. Вопросы крови – самые сложные вопросы в мире, утверждал один персонаж.
– Чур меня! С тобой нужно быть настороже! Ирландцы – любители баб и выпивки!
– Таки в точку! Но, по-моему, это цитата из фильма «Дорз».
– Ты смотрел?
– Много раз! Мне очень близок Моррисон, мне кажется, мы чем-то похожи…. Не внешне, конечно!
Ты улыбнулась:
– Да, внешне ты на него совсем не похож!
– Жалеешь?
– Нет…. Ты мне нравишься такой, какой есть.
– Грубая славянская лесть! А Джим?
– И Джим,– подавшись вперёд, ты положила голову подбородком в ладони, облокотившись локтями о стол, пальцы, сложившись в расслабленные кулачки, коснулись грустной улыбки. – Но фильм ведь не о нём, и не о «Дорз». Фильм о потере веры….
– Вначале так, по-моему, и сказано….
– Может быть, не помню…. Скорее всего, да.
– Согласен. Людям свойственно разочаровываться в том, что было свято. Тогда было разочаровано целое поколение.
– И пусть! Зато до этого оно было счастливо и верило, что сможет изменить весь мир!
– Да. Они отращивали волосы, ездили автостопом, ели ЛСД и отрицали буржуазные ценности родителей. Но это не помешало им через 20 лет возглавлять правительства и корпорации, развязывать войны и пялиться по вечерам в телевизор.
– И снимать отличное кино, писать великие книги и творить замечательную музыку. А ещё рожать детей и учить их добру.
Я поднял руки:
– Сдаюсь! Но, я всерьёз и не спорю с тобой! Я сам думаю так. Люди – разные.
– То-то же! Бойся меня, зануда!
Высокий блондин с усталой улыбкой принёс наш заказ. Я разлил тягучую водку из ледяного, покрытого инеем хрустального графина по миниатюрным рюмкам на тонких прозрачных ножках.
* * *
В одном маленьком городке моей невзрачной отчизны я и мой друг не спеша потягивали дешёвый болгарский бренди за столиком в небольшом кафе, над тёмной атмосферой которого, очевидно, работал мизантроп-минималист. Мой приятель с жаром расписывал мне достоинства нового супер-кара, что в очередной раз выпустили в полу мифической стране с манящим названием.
Я поморщился:
– Не понимаю. Ты с таким восхищением говоришь об этой груде железа, словно ждал её всю жизнь. И даже способен приобрести. А между тем, у нас нет денег, чтобы заказать ещё! Странный блеск в глазах человека, глядящего на фото дорогого автомобиля, или модной шубки из меха экзотического зверька, отдавшего жизнь за высоко поднятый нос какой-нибудь буржуазной твари, всегда казался мне рождённым гремучей смесью зависти и успехов мира рекламы.
– Это не важно.
Я расхохотался.
– Это не важно, – повторил он с улыбкой. – Во-первых, я возьму ещё, не волнуйся! А во-вторых, пойми, дурень, в жизни человека должны быть не только цели, в ней должна присутствовать мечта! И она, желательно, должна быть такой, чтобы её ни в коем случае нельзя было спутать с целью. Мечта должна быть практически не-до-сти-жи-ма. Наличие мечты и отличает человека от киборга, потому что она иррациональна.
– Странные у тебя мечты….
– Какие есть! – он криво усмехнулся, – Кстати, а у тебя есть мечта?
Этот вопрос меня обескуражил. Я тщетно вглядывался в себя, не находя ничего похожего на мечту, если не считать смутного желания достичь Нирваны и стать бодхисаттвой в этом перерождении… Обидно. Вот у товарища, хотя и пошлая, но есть. У меня нет. Значит, я – киборг. Остаток вечера я был рассеян.
Серым днём той запоздавшей весны я стоял у окна и смотрел сквозь грязное стекло на облезшую коробку дома напротив, словно расчерченную выцветшим маркером на аккуратные квадраты выделенных людям сот. Почерневшие сугробы оплывали во дворе, обнажая всё, чем сограждане осчастливили землю за долгую зиму, в набрякшем небе летали растрёпанные мокрые вороны, за углом кто-то угрюмо матерился. И вдруг, я отчётливо понял, что больше всего на свете я хотел бы жить не здесь.
Мне показалось, это она и есть – мечта. Вырваться отсюда. Я не делал для её достижения ничего: не учил языки, не получал гранты, не обивал пороги посольств, не посещал сайтов сводней процветающих государств Европы, Азии и обеих Америк. Я ни разу не выезжал за границу. Тем не менее, со временем, у неё появилось имя – Прага. Почему? Не знаю. Мой друг сказал бы, что это – не важно. И я думаю, он был бы прав.
* * *
Без всякого сожаления мы покинули эту убогую станцию.
– Не знаешь, что означает название «Розтили»?
Ты задумался, коснулся кончика носа длинными пальцами.
– Точно не знаю…. Но парк рядом называется «Горни Розтили» – Верхние Розтили. Географическое непереводимое. Как «Верхние Васюки».
–Ну, и ладно.
Я взяла тебя за руку.
Выходя из метро, всегда удивляешься дневному свету. Он кажется каким-то беззащитным и неловким после равнодушного электричества, тем более поздней осенью, когда мир так раним в своей убогой наготе.
Ты шёл рядом и совершенно не старался произвести на меня впечатление, даже не пытаясь начинать так опротивевшие мне брачные танцы павлинов, обожаемые мужчинами в обществе женщины. Ты был задумчив и немного рассеян. С тобой было легко. Впервые за долгое время я позволила себе расслабиться.
Мы прошли пешеходным тоннелем под оживлённой автомобильной трассой, ведущей из Праги на восток, взяли чуть левее и вскоре пришли в небольшой ресторанчик под странным названием «Сфера».
– Вот оно, место, свободное от туристов! Пока, – ты распахнул дверь.
Мы сели за столик у окна.
– Ты пробовала утопенцы?
– Я о них даже не слышала, но догадываюсь, что это какие-нибудь местные галушки.
Ты рассмеялся:
– Оригинальное, хотя и в корне неверное предположение. Но скоро истина восторжествует.
Пока ты заказывал пиво, я осмотрелась. Народу в довольно просторном заведении было не много. Старик с седыми висячими усами за столиком в углу, упитанная парочка средних лет, оживлённо спорящая о чём-то и несколько молодых людей за большим столом. Все говорили по-чешски.
– Неужели ни одного туриста?
– Теперь один есть. Это ты.
– А ты?
– Я же тебе говорил, что я – не турист.
– Почему?
– Долгая история.
– Я не спешу.
Ты вздохнул и рассказал мне о Праге.
– Вначале она маячила где-то на задворках сознания. А потом стала набирать силу. Я всё сильнее осознавал, как мало держит меня в родном городе, и как, в сущности, я от него уже далёк, – ты ненадолго задумался, глядя в окно на аккуратно подстриженные кусты.
– Там у меня был один знакомый, причём шапочный. Он работал паталагоанатомом в городском морге и обладал твёрдым убеждением, что все люди, которые живут сейчас рядом, рано или поздно окажутся у него на столе. Как-то он сказал мне: «Вот, смотри, ещё три дня назад Армен веселился в компании молоденьких потаскушек и грязно интриговал против ближайшего конкурента, а сегодня я держал в руках его увеличенную печень». При этом он странно, и, как мне показалось, оценивающе, оглядывал меня. Это и стало последней каплей. Я ни за что не хотел оказаться в больших, покрытых чёрным волосом руках этого неприятного человека. При этом больше всего пугала неотвратимость: останься я там – и всё, что будет дальше, ясно, как божий день. Известно, какая жизнь меня ждёт, со смертью не всё так очевидно, но это как-то не радует, и в конце этот, с мёртвыми глазами. Оставалось одно – бежать без оглядки от этих глаз, от поджидающих латексных рук, из этого жуткого вязкого болота. Немедленно.
– А семья?
– К тому времени я стал совершенно свободен.
Я перегнулась через стол и провела рукой по твоим волосам. Ты чуть вздрогнул, взглянул на меня вопросительно. Я улыбнулась в ответ, взяла запотевший бокал с изящной талией, делая большой глоток, не отвела глаз.
– Ты уехал навсегда?
– Да.
– И давно ты здесь?
– С месяц.
– Понятно…, – мне показалось, что ты не хочешь больше об этом.
– Ну, и где утопенцы?
Ты оживился.
– Утопенцы нужно заказывать не сразу. Это не вобла. Сначала нужно выпить пару кружек, и лишь когда придёт желание подкрепиться, стоит позвать пана верхнего.
– Уже пришло. Часа два назад.
– Тогда пора.
Утопенцами оказались бледные, острые, пропитанные уксусом колбаски с маринованным луком. Их принесли в огромной стеклянной банке, литров пять – не меньше, чтобы уже при нас выудить на тарелки.
– Вкус неожиданный…. Они это едят?
– Они этим закусывают! Не понравилось? Я закажу что-нибудь другое…
– Нет, всё хорошо. Как закуска – очень хорошо. Никогда не ела маринованной колбасы. Твои чехи – большие шалуны!
– Это ещё что! Мне говорили, что церемония поглощения утопенцев такова: правильный официант приносит банку на стол, непременно облизывает свои пальцы, запускает ручищу в банку, выуживает колбаски, а затем даёт облизать пальцы вам!
– Какое счастье, что нам попался неправильный официант!
–Да, для полноты картины знай, что утопенцы – утопленники по-чешски.
– Кошмар какой!
– Это потому, что они имеют слегка синюшный вид…