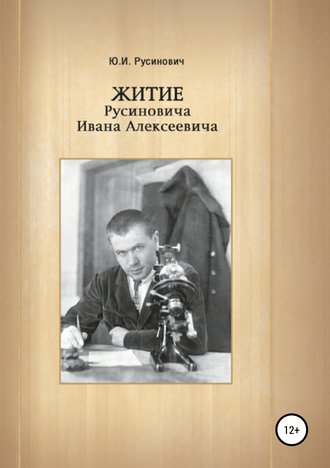 полная версия
полная версияЖитие Русиновича Ивана Алексеевича

… Исполнен долг, завещанный от Бога
мне, грешному. Недаром многих лет свидетелем господь меня поставил
и книжному искусству вразумил…
(А.С. Пушкин)
Предисловие
6 октября 2016 года исполняется 110 лет со дня рождения лауреата Ленинской премии Ивана Алексеевича Русиновича, одного из первооткрывателей месторождений богатых железных руд бассейна Курской магнитной аномалии, внесшего существенный вклад в дело разведки и освоения минерально-сырьевой базы Европейской части России.
Более 80 лет назад молодой выпускник геологоразведочного института из Томска приступил к изучению природных кладовых КМА. На тот период были известны прогнозы профессора Э.Е. Лейста и академика И.М. Губкина, сделанные на основании магнитометрических и гравиметрических измерений, о наличии огромных запасов богатых руд в этом районе. Правда, авторы несколько расходились в оценке мощности залежей: первый определил их в 225 млрд пудов, второй – в 200 млрд тонн. (Фотографии Э.Е. Лейста и И.М. Губкина постоянно хранились в архиве И.А. Русиновича.) Кроме того, три скважины показали наличие в тех местах бедных, не имеющих промышленного значения, железистых кварцитов. Только две скважины в 1931 году почти одновременно около сёл Коробково и Стойло показали богатую руду, содержащую 55-60 % железа, расположенную на небольшой глубине и имеющую мощность 25 метров. Все то, что представляет из себя на сегодня бассейн КМА, предстояло еще только открыть.
С тех пор почти 45 лет из 60-ти, в течение которых в Советском Союзе проводились комплексные исследования бассейна КМА, Иван Алексеевич Русинович в различных ипостасях принимал самое непосредственное и активное участие в исследовании проблем КМА. На основании материалов, полученных геологами и геофизиками до него, а также собственных исследований ему удалось понять и объяснить генезис и характер расположения месторождений богатых руд в области КМА и связать это с внешними признаками, определяемыми инструментами геофизической разведки. Предложенные им принципы позволили с большой вероятностью обосновать направление поисковых работ, в кратчайшие сроки осуществить разведку и открытие огромных месторождений богатых железных руд: «Общий потенциал железистых кварцитов около 1,5 трлн тонн (до глубины 1200 м) и богатых железных руд 71,8 млрд тонн».
Конечно, все это выявлено в результате кропотливого труда многих и многих специалистов, больших коллективов, перечислить их все здесь не представляется возможным, но у истоков этих поисков посчастливилось стоять Ивану Алексеевичу Русиновичу.
Занимаясь изучением относительного расположения богатых руд и кварцитов, изменения их химического состава по отдельным элементам в зависимости от глубины залегания, он смог определить, какие химические процессы были ответственны 3 миллиарда лет назад за образование формаций богатых руд. На основании этих материалов он сформулировал гипотезу генезиса богатых железных руд бассейна КМА, признанную в настоящее время официальной геологией России.
Приглашение в 1971 году И.А. Русиновича с докладом в качестве почетного гостя на юбилейное заседание Академии наук СССР, посвященное 100-летию со дня рождения И.М. Губкина, свидетельствует о признании «большой наукой» его заслуг.
Результаты его работ, начиная с 1937 года, публиковались в различных журналах СССР: «Разведка недр», «Разведка и охрана недр», «Советская геология», в многочисленных монографиях, посвященных проблемам бассейна КМА. За время, прошедшее после его смерти, он не забыт. Ни одно сколько-нибудь серьезное издание по железным рудам КМА не обходится без ссылки на его труды. Примером тому может служить вышедшая к 300-летию горно-геологической службы России монография «Железные руды КМА». Она выпущена московским издательством «Геоинформ» в 2001 году.
В 2003 году, в год 220-летия открытия Курской магнитной аномалии, глава администрации города Старый Оскол Белгородской области Н.П. Шевченко принял постановление – на доме по улице 9 Января, где жил Иван Алексеевич, в память о нем установить мемориальную доску.
Иван Алексеевич часто говорил, что он счастливый человек – ему повезло увидеть «материализацию» своих трудов: четыре из пяти месторождений, эксплуатируемых в настоящее время, в открытии и разведке которых он принимал самое активное участие, начали давать руду уже при его жизни.
Не принимая на себя труд дать оценку деятельности Ивана Алексеевича с точки зрения сегодняшнего дня геологической науки – это дело специалистов, – мы хотели только поделиться своими воспоминаниями о нём, как о человеке с его слабостями, радостями и привязанностями. Упоминание о его семье, её быте, на наш взгляд, должно дополнить картину, поскольку семья во многом определяет наши заботы, переживания и наши успехи.
Город Королёв,
Московская область,
2015 год
Иван Алексеевич Русинович родился 6 октября (по новому стилю) 1906 года в местечке Нарев Бельского уезда Гродненской губернии. (До революции эта губерния входила в состав Российской империи, в настоящее время большая часть её территории находится в составе Белоруссии, меньшая вместе с Наревом – принадлежит Польше, незначительная часть – Литве и Украине.) Отец Алексей Яковлевич Русинович, мать – Анна (сведений о её отчестве, к сожалению, не сохранилось) – крестьяне, «в хозяйстве их было 3,5 десятины земли (примерно 5 га – авт.), половина жилого дома и холодные постройки: сарай и хлев. Управляя хозяйством, наемной силой не пользовался» (из справки Народного совета гмины (волости) Нарев от 10 декабря 1951 года). Они имели шестерых детей: четыре сына и две дочери. Ивану не исполнилось и шести лет, когда умерла мать. Во время полевых работ у неё начались схватки, там же она родила сына, кровь остановить не смогли. Иван Алексеевич вспоминал, как засуетились женщины, и отец стал выговаривать матери: «Рассупонилась, нашла время!».
В местечке Нарев Иван ходил в церковно-приходскую школу. «Закон Божий» там учили добросовестно, отец довольно подробно рассказывал эпизоды из священного писания и комментировал картины на библейские сюжеты.
В раннем детстве, по-видимому, он был веселым, подвижным ребенком, отец рассказывал, что родители о нём говорили: «вырастет – комедиянтом будет». Еще из детских воспоминаний отец рассказывал, как заготавливали грибы и как умирал дед – отец матери.
Заготавливать грибы ездили в лес на телегах, набирали целую телегу (по его тогдашним понятиям), пока ее отвозили домой, набирали следующую.
Деду было 83 года. Как-то вечером он засуетился и говорит дочке:
– Доню, дай мне побыстрей чистое бельё переодеться, я сейчас помирать буду.
Та стала успокаивать:
– Вот ты еще какой молодой, рано о смерти думать.
А тот требует:
– Делай, что тебе говорят.
Она собирает бельё, то ли его, то ли себя успокаивает:
– Ничего не поделаешь, вы прожили такую долгую жизнь…
А он отвечает:
– Что ты, доню! Как в одну дверь вошёл, так в другую и вышел.
Переодели его, и вскоре он затих.
Во время Первой мировой войны в 1915 году казаки при отступлении собрали все население местечка, предложили погрузиться на лошадей и ехать в Россию – в Сибирь. Особенно никто и не сопротивлялся – по слухам, в Сибири было много земли, всем должно было хватить. Доехали до Новониколаевска (Новосибирск), там отец Алексей Яковлевич устроился на работу в железнодорожные мастерские. В начале 20-х годов во время эпидемии он заболел тифом, но выздоровел. Говорят, часто в процессе выздоровления очень хочется поесть квашеной капусты, поел – возвратный тиф и смерть. Нищета была страшная, хоронить покойников было не на что – сжигали. Иван пошел на лесопилку, чтобы набрать стружки. Глядит – кошелек с деньгами. Побежал домой. Сосед говорит: «Это тебе Бог дал на похороны отца». Удалось похоронить по-христиански.
После заключения в 1921 году Рижского мирного договора Западная Белоруссия, в том числе и Нарев, отошла к Польше. Всем, кто приехал оттуда, было предложено вернуться. Уехали старшие братья Яков и Константин, очень хотел ехать с ними и Иван, но сестра не отпустила.
В России остались вчетвером: старшая сестра Анна, Иван, младший брат Антон и Тася. Ивану было 15 лет, перебивались случайными заработками. В частности, он торговал табаком от фабрики китайца Ким Тянь Шу. Одновременно учился на курсах телеграфных надсмотрщиков. После их окончания с сентября 1923 года по апрель 1928 года работал надсмотрщиком телеграфа Новосибирской телефонной станции Западно-Сибирского округа связи. Одновременно учился в школе взрослых повышенного типа. Увлекался сборкой детекторных радиоприемников. Любовь к радиотехнике, радиоаппаратуре у него осталась на всю жизнь.
В 1928 году в его жизни произошли три события, определившие его последующую судьбу: закончил школу, поступил на горный факультет Сибирского технологического института в Томске, на геологоразведочную специальность, и женился.
Почему геология? При поступлении сказали, что в этой области науки очень много литературы. Ивана это устраивало. Женился на Валентине Дмитриевне Михайловой. Отец жены Дмитрий Федорович Михайлов – начальник отдела перевозок Средне-Сибирского отделения связи, мать Клавдия Поликарповна до революции – преподаватель французского языка в гимназии. После революции все учили немецкий, ее знания были не нужны, умерла в 1923 году в возрасте 40 лет – тиф.
В январе 1929 года у Русиновичей родилась дочь Юлия. Вскоре после рождении Юлии родители развелись. В то время в стране была безработица, и если один из членов семьи имел средства к существованию, то второго члена семьи на работу не принимали. Только после этого мама смогла устроиться на работу в столовую. Уже в старшем школьном возрасте мы поняли, почему нас, младших детей, отец называл «байстрюками» – на украинском языке означает – незаконнорожденный. «Формализовали» свои отношения родители только в 1948 году в Старооскольском ЗАГСе. Мама оставалась всю жизнь Михайловой.
Забегая на 10-15 лет вперед, скажу, что в детстве мы испытывали какой-то леденящий душу ужас, связанный с двумя событиями из истории маминой семьи: дедушка мамы по матери был врач, говорили, что он заснул летаргическим сном и был похоронен живым. От мамы мы слышали, в старину среди прочих разных был и такой способ гадания: если в Святочную ночь сесть на церковной паперти, то можно увидеть, как мимо пройдут те, кто должен умереть в этом году. Не могу представить, что подвигло Клавдию Поликарповну (мамину маму) на такое страшное гадание, но на святки 1923 года она ходила на паперть. Пришла и рассказывала, что видела себя. В этом же году умерла.
Валентину Дмитриевну в институт не приняли из-за социального происхождения; много позже она получила среднетехническое образование. На базе горного факультета Сибирского технологического института в 1930 году был создан Сибирский геологоразведочный институт (ныне Томский политехнический университет), его и заканчивает Иван в 1932 году. Для поездки на место работы денег на переезд, как тогда говорили «подъемных», не полагалось. Берут мебель, что была в их комнате в общежитии, перевозят на другой край Томска на базар, продают и покупают билеты до Старого Оскола. Спрашиваю маму: «Как же вы обходной лист подписывали?». Она говорит: «В то время никаких обходных не было – все было на честность». Сейчас читаю «Алмазный мой венец» Валентина Катаева – оказывается, в те времена это был довольно распространенный «номер».
Поскольку предстояла поездка через всю страну, на новое место, да еще с пересадками, а Юле было 3 года и Валентина Дмитриевна была беременна, решили взять поменьше багажа. Зимние вещи оставили у старшей сестры Ивана Алексеевича – Анны Алексеевны в Новосибирске. С тем, чтобы налегке, если останутся в Старом Осколе, ближе к зиме забрать. Перед поездкой за ними выяснилось, что Анна Алексеевна все это отнесла на базар и продала. На зиму пришлось одеваться с нуля. Рассказываю это потому, что много позже я по работе часто бывал в Новосибирске, родители знали, что я у тетки Анны останавливаюсь, и никогда даже намёка не делали, что «новосибирцы» поступили на тот период с ними «не очень хорошо», чтобы не осложнить мои с ними отношения, и вообще относились к этому без злобы, скорее, как к курьезу.
В мае 1932 года семья приезжает в город Старый Оскол, отец поступил на работу в геологический трест КМА, где довольно быстро стал продвигаться по служебной лестнице: геолог геолого-съемочной группы, старший инженер, руководитель камеральных работ, заведующий петрографическим кабинетом, начальник партии по геологическим съемкам. Одновременно стал преподавать в Старооскольском геологоразведочном техникуме, который как раз открылся через два года. Жили сначала в Стрелецкой слободе (в Заимнике), затем на Верхней площади по адресу: улица Красноармейская, дом 5. (В настоящее время дом этот снесен, там территория кооперативного техникума.)
В том же году родилась дочь Ирина – умерла во младенчестве от заражения крови.
В 1933 году родился сын Юрий, то есть автор этих строк.
В 1933 году И.А. Русинович выпускает отчет «О трехверстной геологической и гидрогеологической съемке верхней части бассейна реки Оскол». В 1934 году – отчет «Петрографическое описание докембрийских пород и железных руд Сретенско-Лебединского участка Старо-Оскольского района Курской магнитной аномалии». В 1935 году совместно с Ф.С. Золозовым подготовил отчет «Результаты геологоразведочных работ на Стойленском участке».
Большинство сотрудников треста были молодыми. В долгие зимние вечера взрослые собирали детей в чьей-либо квартире и уходили кататься на санках, благо зимы тогда были снежные. Старый Оскол располагался на высоких меловых буграх, за горками далеко идти было не надо, машины по улицам города не ездили. Зимнее катание закончилось печально: в один из вечеров Лиференко (сотрудница треста) поломала ноги, катание прекратили, а может повзрослели. На кинофильмы ходили в кинотеатр и иногда в Дом пионеров – на Комсомольской улице.
Летом играли во дворе в лапту, волейбол. Увлекались стрельбой, сдавали нормы ГТО. Валентина Дмитриевна имела значок «Ворошиловский стрелок». На майские праздники ходили на пикники в Горняшку, в теплые летние месяцы ездили в Бор, по вечерам ходили купаться на реку Оскол. В городе было два пляжа: на лугу и ниже плотины.
Валентина Дмитриевна училась в геологоразведочном техникуме на «мужскую» специальность буровика.
В складчину отмечали праздники, пели песни: «Кирпичики», «Мой миленок, как теленок…», «Орленок», «Каховка», «Мурка», «Дан приказ: ему на запад», «Крутится, вертится шар голубой», «Там вдали за рекой», «Степь да степь кругом», «Глухой, неведомой тайгою», «Мой костер», «Тучи над городом встали», «Ты жива еще, моя старушка?», «Выхожу один я на дорогу», «Отцвели уж давно хризантемы в саду…», «Белой акации – цветы эмиграции». Отец очень любил «Ах, васильки, васильки», «Коробейники», «Раскинулось море широко», «Когда я на почте служил ямщиком». Мама нам пела «Мама, ты спишь, и тебя одевают в новый, совсем незнакомый наряд», «Умирала мать в нетопленой избе», «Вот вспыхнуло утро, окрасились воды, над озером чудная чайка летит…», «…И когда война пройдет сторонкой, и действительную отслужу, я вернусь в родную деревеньку, на могилу к матушке схожу»…
Геологическое руководство поисково-разведочными работами треста КМА в 1935-1937, 1939-1941 годах осуществлялось И.А. Русиновичем. Им производится первоначальная разведка площадки и дается обоснование возможности строительства на ней Оскольского металлургического завода.
На Коробковском месторождении строится первая разведочно-эксплуатационная шахта. 27 апреля 1933 года из этой шахты у села Коробково (ей присвоили имя И.М. Губкина) была поднята на поверхность первая бадья руды. Этому событию в тот же день посвящается большое торжество, на которое в Старый Оскол из Воронежа приехали первый секретарь обкома ВКП (б) Центрально-Черноземной области И.М. Варейкис, председатель облисполкома Е.И. Рябинин, а из столицы – известный советский писатель Фёдор Панфёров. И.М. Губкин прислал из Москвы участникам торжественного собрания телеграмму, в которой поздравил всех с открытием первой шахты, с добычей первой руды и выразил веру в создание на основе руд КМА мощной металлургической базы. Он высказал сожаление, что обстоятельства не позволили ему быть на торжестве.
Потом, к слову, возникла легенда, что первую бадью с рудой приурочили к приезду Губкина и, когда он в этот день подошел к стволу шахты, горняки опрокинули её к ногам академика, подчеркивая тем самым его огромную роль в свершившемся событии. Если и имел место такой факт, то он, вероятно, произошел намного позже.
В торжествах по случаю открытия шахты вместе с другими работниками треста КМА посчастливилось принять участие и молодому специалисту Ивану Русиновичу. Однако, несмотря на получение первой руды, на это несомненное достижение, кое-кто в отрасли продолжал вести разговоры о нерентабельности добычи руды на КМА по сравнению с Криворожским месторождением, что тормозило разворот их промышленного освоения. В 1934 году на стройку приезжает академик Иван Михайлович Губкин, возглавлявший с августа 1931 года комиссию Наблюдательного совета по КМА. Встреча отца с ним предопределила направление последующих исследований месторождений Курской магнитной аномалии.
Со стройки академик направился в Старый Оскол в геологоразведочный трест, где Иван Русинович заведовал петрографическим кабинетом.
Дела в тресте были не блестящими. Противники Курской магнитной аномалии всячески добивались свертывания разведочно-поисковых работ. И не без успеха. Ассигнования на разведку полезных ископаемых сокращались. Буровые вышки демонтировались. Часть полевых геологов старалась перевестись в другие места.
Со всем этим Губкин был решительно не согласен и надеялся убедить маловеров в противном. Он попросил главного инженера треста К.Я. Пятовского подготовить обстоятельный отчет за пять лет.
– Работа геологами проделана большая, материал собран огромный, – говорил Иван Михайлович. – Но запасы руд не подсчитаны, хотя имеющиеся у вас материалы позволяют это сделать. Без точного подсчета запасов нам трудно отстаивать свою позицию. Так что беритесь за это дело немедленно.
Пятовский развел руками:
– Сейчас, Иван Михайлович, мне некого посадить за составление отчета. Уж очень мало в тресте специалистов…
– Не скромничайте, Константин Яковлевич, – возразил Губкин Пятовскому. – Как это нет специалистов?
Иван Михайлович остановил взгляд на молодом человеке, скромно сидевшем в углу за письменным столом.
– Вот хотя бы этот товарищ. Как ваша фамилия? – шагнул Губкин к столу, за которым сидел молодой работник треста.
– Русинович, – геолог поднялся из-за стола.
– Давно работаете в тресте? – Иван Михайлович опустился на свободный стул и, глядя сквозь очки на Русиновича, улыбнулся: – Судя по возрасту, много вам еще не пришлось работать. У вас все впереди.
– Третий год я в тресте, – ответил Русинович.– В полевой партии работал.
Губкин внимательно слушал, время от времени задавал наводящие вопросы. Когда Русинович закончил, академик Губкин сказал Пятовскому:
– Вот ему и поручите обработку материала. Командируйте товарища Русиновича в Москву, пусть побывает в «Союзгеологоразведке» и познакомится с тем, как пишутся геологические отчеты.
По возвращении из Москвы Русинович засел за составление отчета «Результаты геологоразведочных работ на Курской магнитной аномалии за период с 1930 по 1935 год включительно». Писал его вместе с главным геологом треста Федором Степановичем Золозовым. На обработку разрозненных материалов за пять лет работы треста ушло два с половиной года. В настоящее время этот отчет экспонируется в музее истории КМА в городе Губкине.
Иван Алексеевич вспоминал:
– Когда я анализировал геологический материал, собранный за пять лет, то обратил внимание на любопытную закономерность. Оказалось, наиболее крупные месторождения богатых железных руд сосредоточены там, где расположены широкие поля железистых кварцитов. Там, где железистые кварциты тянутся узкими полосами, запасы богатых руд менее значительны.
Этот вывод в то время имел не только чисто теоретическое, но и важное практическое значение. Исходя из него, И.А. Русинович вместе с геофизиком Старооскольского геологоразведочного треста Арсением Ивановичем Дюковым обосновали необходимость искать богатую руду возле деревни Стойло. А также в районе Михайловки, на узлах магнитных аномалий, с которыми связаны широкие полосы железистых кварцитов. Впоследствии сделанный геологами прогноз полностью подтвердился. Однако открытие, определившее направление поиска богатых железных руд бассейна, официально зарегистрировано не было.
А самое главное – в выпущенном в 1937 году отчете геологов И.А. Русиновича и Ф.С. Золозова впервые были названы подсчитанные ими реальные запасы руд на открытых к тому времени месторождениях Курской магнитной аномалии. Общая разведанная площадь КМА составляла тогда всего 20 квадратных километров и приходилась целиком на Старооскольский район. Да и из этой небольшой площади детально разведана была лишь четвертая часть, а остальная исследована лишь поисковой разведкой. Но уже в то время на разведанных площадях Русинович и Золозов оценили запасы железных руд в 400 миллионов тонн.
В это же время в журнале «Разведка недр» за 1937 год выходят две его статьи в №9-10 «Результаты геологоразведочных работ на Стойленском участке КМА», в №14 «К постановке геологоразведочных работ на участке в районе села Панки» (совместно с А.И. Дюковым). Последующая разведка в 1956-1965 годах в этих местах с лихвой подтвердила изложенные в статье прогнозы. Подсчитанные в 1985-1989 гг. Белгородской экспедицией ресурсы богатых руд составляют 20,3 миллиона тонн, железистых кварцитов – 5 миллиардов 830 миллионов тонн.
Обнародование в отчете 1937 года цифры разведанных запасов железных руд сыграло большую роль в дальнейшей судьбе КМА. Собравшийся в марте 1939 года XVIII съезд партии в своих решениях записал: «Приступить к строительству шахт в районе Курской магнитной аномалии, как дополнительной базы черной металлургии Центра, и провести подготовительные мероприятия к строительству металлургического завода в районе КМА».
В 1932 году было начато строительство первого рудника на территории КМА. На Интернациональной улице, между улицами 9 Января и Урицкого, строится первый в Старом Осколе четырехэтажный жилой дом для семей сотрудников треста «КМАстрой». Во время войны дом сгорел, при восстановлении 4-й этаж разобрали, с тех пор там стоит дом трехэтажный.
В июне 1936 года в Коробково из-за неправильной прокладки штрека на горизонте 145 м проходчики попали в водянистые, рыхлые, песчано-глинистые породы юрского периода – плавуны. Находясь под гидростатическим давлением около восьми атмосфер, эти породы устремились в выработку, затопили помещение насосной камеры, вывели насосы из строя, вода перестала откачиваться и затопила шахту. После чего шахтные воды быстро достигли статического уровня. Как мама как-то писала мне в письме, в те времена они страшно боялись слова «вредитель». И хотя в сентябре 1936 года авария была ликвидирована, к весне 1937 года начались аресты инженерно-технических работников треста. Один из коллег отца, фамилию которого я уже, конечно, забыл, по этому поводу удачно острил: «Иван Алексеевич, когда Вас арестуют, Вы не думайте, что Вы не виноваты», но арестовывают и его. (В середине пятидесятых годов отец встретил его в Министерстве геологии, естественно, поинтересовался, «что он думал в момент ареста о своей виновности?».)
Ждать, когда его арестуют, отец не стал. В мае 1937 года срочно переводится на Украину. Наверное, страх был велик, за два года меняет три места работы: рудничный геолог Дзержинского рудника в городе Кривой Рог, инженер-исследователь научно-исследовательского горнорудного института, геолог Главного геологического управления УССР в Киеве.
В 1938 году родилась дочь Ирина. Пока мы не научились сами читать, вечерами собирались вместе, и родители читали вслух. Всего «Конька-Горбунка» П. Ершова отец знал наизусть. Декламировал нам «Школьника» Некрасова, стихи Валерия Брюсова: «Каменщик, каменщик в фартуке белом, что ты там строишь? Кому?». Какое-то стихотворение, заканчивающееся словами: «Слушаю я сказку, сердце так и мрет, а в трубе сердито ветер злой поет». Интересно рассказывал, как теперь выяснилось, из «Петербургских трущоб». В Кривом Роге он читал нам «Дети подземелья» Короленко, позднее «Два капитана» Каверина (печатались в «Пионерской правде», мы ее выписывали), Жюля Верна, Александра Беляева, позднее многие из рассказов Джека Лондона. Видимо, этим он нас приучил читать, в семье всегда много читали. Мама до последних дней выписывала «Юность» и «Комсомолку», читала «толстые» журналы, романы, следила за современной литературой. Когда жили в Киеве, ходили в театры на спектакли. Помню «Снежную Королеву», «Сорочинскую ярмарку», «Свадьбу в Малиновке», «Запорожца за Дунаем».

