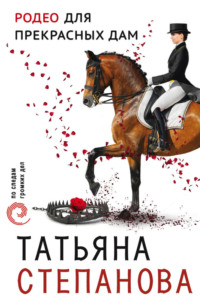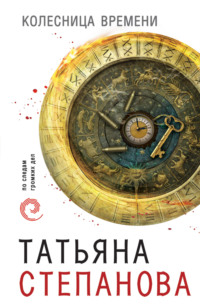Полная версия
Яд-шоколад

Татьяна Степанов
Яд-шоколад
Глава 1
Соловей, что прилетает без спроса…
Птица поет…
Нежная трель где-то совсем рядом, но не разглядеть ничего.
Птица поет в сумеречном парке, полном теней и майской свежести.
Это соловей?
Нет, не он…
Ну конечно же, это соловей, что прилетает без спроса, как в той старой детской сказке, и садится у окна. И поет, когда ночь…
Когда смерть совсем близко.
Она попыталась пошевелиться в кромешной тьме, но не смогла – руки связаны. И вот странно – она совсем не чувствовала себя… то есть своего лица, как будто оно вдруг куда-то делось, пропало.
Эта тьма вокруг, словно безлунная ночь поглотила парк, полный теней и майской свежести.
Связанные за спиной скотчем руки нестерпимо болели, их она чувствовала, чувствовала свое тело. Извивалась как червяк на чем-то холодном, липком, мокром. Не земля – нет, сырой твердый камень. Но пахнет землей, как в могиле. И еще пахнет прелью и свежей, дурманящей ум майской зеленью. И еще чем-то…
Она ничего не видела, не чувствовала своего лица совсем. Но ощущала все запахи ночи.
Ее звали Ася. Подруги и коллеги по работе любили ее за спокойный веселый нрав. Этой весной у нее впервые после института появился парень, и они порой выбирались куда-то вместе. Но не сегодня и не в этот парк. Если идти по боковой аллее, выйдешь прямо к кирпичным многоэтажкам. Она всегда здесь ходила по дороге с работы домой. За деревьями проносятся автобусы и машины. А тут свежо и пахнет молодой листвой. И травой. И влажной землей. Можно отдохнуть, подумать, расслабиться и вздохнуть в полную силу легких.
И соловей поет где-то рядом, но не разглядеть, потому что…
Глаза в этой тьме не видят.
Кофточка на груди совсем промокла.
Что-то липнет к коже.
И голос…
Этот голос, что звучит из темноты.
– Думаешь, я недостаточно хорош для тебя? Не обладаю, чем должен? Это ты… ты недостаточно хороша для меня. Не мила, не желанна.
Голос… он, пожалуй, даже красив. Мужской, со звучными обертонами. Вот только он прерывист сейчас и глух, словно обладатель его задыхается – от страсти ли, от ненависти ли, от вожделения или гнева. А может, все вместе в этом голосе, который она слышит над собой, когда соловей все поет и поет в непроглядной тьме.
И смерть близка…
– И та влага, что течет у тебя сейчас между ног… твой сок… он не нужен мне. Я не нуждаюсь в тебе совсем… Слышишь ты? Я люблю другую. А ты тварь, ты просто тварь.
Влага течет по груди, кофточка спереди промокла насквозь. И где-то в голове внутри поднимается великая боль.
– Ты ничтожная, грязная, вонючая девка, посмотри на себя, кто может пожелать, полюбить тебя. Только не я. Я даже не хочу касаться тебя. Я брезгую тобой. Слышишь ты, мокрая развратная тварь, я брезгую тобой!!!!
Соловей умолк, испугался, когда смерть протянула руку, чтобы свернуть ему шею.
Лишь этот голос – мужской, полный страсти и ярости.
– И все же я возьму тебя, достану глубоко… чтобы ты помнила… чтобы знала… чтобы помнила меня… всегда… всегда… Будет больно…
Волна боли ударила изнутри, в голове что-то лопнуло, прорвало плотину.
Все лицо опалило огнем, каждый нерв, каждый сосуд вибрировал от нестерпимой боли. В этой темноте… в этой страшной вечной темноте.
Ася забилась на холодном мокром камне, истошно крича, визжа.
Крики наполнили тихий вечерний парк, полный сумеречных теней.
Женщина кричала так, словно ее рвали на куски.
Женщина кричала…
Соловей улетел.
Смерть ждала, когда крик оборвется.
Глава 2
Пациент
Орловская психиатрическая больница специализированного типа.
Два года спустя
…Лечение и реабилитация психически больных лиц, совершивших преступления и признанных невменяемыми… освобожденных от уголовной ответственности по решению суда по причине невменяемости…
Монотонное бормотание под нос и скрип тележки, на которой в больнице развозят свежие постельные принадлежности – только что из прачечной. Тележку толкает худенький человечек в больничной робе, и он все бормочет, бормочет. Когда-то давно он вызубрил наизусть служебную инструкцию больницы специализированного типа и теперь всякий день, помогая дежурной санитарке развозить белье, памперсы и чай, повторяет вызубренное, как священную мантру.
…Совершивших преступление и признанных невменяемыми… освобожденных от уголовной…
Это тихий больной.
Это очень тихий больной.
Только он не выносит вида острых предметов.
Их от него – даже обычные канцелярские карандаши – прячут за семью замками.
Больничные корпуса из красного кирпича – приземистые, с толстыми стенами, покатой крышей и новыми стеклопакетами с решетками изнутри на улице Ливенской. Это сразу за парком Танкистов – спросите любого в Орле, всякий покажет. Можно идти по Итальянской улице, а можно через знаменитые Орловские Лужки – результат один: упрешься в КПП и больничную ограду. По периметру – охрана.
За оградой – все очень благопристойно и цивильно, двор убран – ни соринки, все очень чисто, но чистота эта тюремная.
Охрана по периметру.
Толстые стены.
Теплые окна-стеклопакеты с могучими решетками внутри.
Длинные коридоры, выкрашенные в мрачно-голубой цвет.
Двери как в тюрьме.
Нет ручек, персонал пользуется спецключами.
Тележка с бельем, памперсами и горячими чайниками катится, скрипя, по одному из таких коридоров.
Тихий больной бормочет свою вечную мантру.
По коридору к одному из отдельных боксов неспешно идут двое интернов-практикантов. Орловская психиатрическая специализированного типа – место знаменитое, немало прославленных психиатров-экспертов проходили тут практику, почитая это за честь и великую удачу для карьеры.
В Орловской психиатрической можно увидеть такое, что нигде никогда больше не увидишь, редкие случаи в практике.
Интерны молоды и немного легкомысленны, но место… это место действует на них. Среди женского обслуживающего персонала больницы – санитарок и нянечек они пользуются почти таким же оживленным радостным вниманием, как и охрана, которая не вмешивается в лечебный процесс. С мужчинами как-то все же спокойнее, надежнее в компании больничного контингента.
Все палаты в Орловской психиатрической, как всегда, переполнены. Но бокс, этот бокс, у дверей которого останавливаются любопытные интерны, одноместный. Он оборудован камерой видеонаблюдения.
Один из интернов приникает к глазку на железной двери.
– Все по-прежнему, – говорит он после довольно долгой паузы. – Отметь в листе – все без изменений. Та же поза, но ритм другой. Все по-прежнему или хуже. Лекарства не действуют.
Внутри бокса на мягких матах сидит мужчина. Судя по фигуре – молодой, худощавый. У него темные волосы и покатые плечи. Он сидит, поджав ноги «по-турецки», и с невероятной скоростью и бешеным точным ритмом барабанит ладонями по мягким матам.
Тара-тара-тарарара-рам там там!
Тара-тара-тарарара-рам там там! – как эхо одними губами вторит ритму второй интерн:
– Теперь это… ах ты, что-то очень знакомое, – говорит он, и его губы шевелятся, словно смакуя четкий ритм.
– Это Чайковский, из симфонии «1812 год», фрагмент марша. Мое любимое место.
– Ты говорил ему, что любишь эту симфонию?
– Нет, когда его приводили к главному, это звучало на диске, потом выключили.
Главный – это главврач Орловской психиатрической, он курирует практику интернов и пользуется у них непререкаемым авторитетом как светило психиатрии.
– Сколько он тут уже так, без остановки, барабанит? Три дня? – спрашивает первый интерн и снова прилипает надолго к глазку.
– И еще ночь. Сразу после того инцидента его отвели в медпункт, обработали ссадины, и главный приказал поместить его сюда под наблюдение.
Инцидент произошел глубокой ночью в девятнадцатой палате. Другие больные внезапно напали на этого вот больного, начали душить и бить чем попало.
– Удивительно, – говорит первый интерн.
– Что удивительно? Что он не устает? Это просто своеобразная реакция на…
– Что он не убил никого там, в палате ночью, когда они набросились на него. Учитывая, какой за ним тянется хвост… странно, что он никого там не прикончил в драке.
– Главный решил перевести его сюда, понаблюдать.
– А ты когда-нибудь слышал, как он говорит?
– Всего один раз, он очень неохотно идет на любой контакт.
– А где ты его слышал? В кабинете у главного?
В кабинете главврача – просторном и светлом – на стене висит большая картина, написанная больным, в прошлом художником. На картине – копии полотна из Лувра – изображен французский врач восемнадцатого – начала девятнадцатого века Филипп Пинель, снимающий цепи с умалишенных.
Интерн кивает – да, он слышал, как этот больной говорил с главврачом. Тот может подобрать ключ к любому, самому сложному пациенту. Это большое искусство, это пик профессии, этому еще предстоит учиться обоим молодым интернам.
– Знаешь, главный им заинтересовался с самого начала, – говорит интерн.
– Из-за того, что этот тип совершил на воле?
– Да, но не только. Что-то в нем необычное… главный так считает – и в самом этом пациенте и его случае. Что-то странное.
– Я не понимаю, о чем ты, – второй интерн пожимает плечами. – Он же убийца, садист. Так, ладно, ждем еще сутки, удваиваем дозу лекарства. Если не увидим улучшений, надо ставить вопрос о принудительном кормлении.
Глава 3
Рейнские романтики
Они оба любили это место. Только вот, как всегда казалось Олегу Шашкину, по прозвищу Жирдяй, он любил его больше.
Они называли это место – Логово. Логово, где собирались они все – Рейнские романтики, группа «Туле».
Группа действительно настоящая, существовавшая взаправду, как любил отмечать Олег Шашкин – рок-группа, пытавшаяся играть тяжелый рок и совмещать несовместимое: убийственный романтизм бытия и пошлую низменность «мечт».
Именно «мечт», так говаривал Дмитрий Момзен вместо слова «мечтаний». Тексты для песен сочинял он сам, и у него неплохо получалось. Группа «Туле» выступала по закрытым клубам, ездила по стране и СНГ. Но потом внезапно начались всякие сложности и неприятности, связанные с названием.
Приходили грозные письма с требованием это самое название изменить – из разных государственных инстанций, которые вдруг стали очень придирчиво, чуть ли не под микроскопом изучать – а что же это там поют и играют в этой самой группе «Туле».
Дмитрий Момзен – человек образованный, «головастый», как считали все Рейнские романтики, умно парировал все эти официальные выпады.
Да боже упаси, господа начальники. «Туле» – это такой воображаемый остров на Крайнем Севере в воображении еще античных поэтов. Край края земли – за ним лишь небесный чертог да райские врата, если вы верите в них.
– Вы верите в райские кущи? – спрашивал он у помощника прокурора – молодого и злого, ведущего официальную проверку деятельности группы «Туле». Спрашивал прямо там, в прокуратуре, в кабинете, наивно округляя свои прекрасные голубые глаза цвета арктического льда и от этого делаясь еще красивее и наглее.
Так вот, даже если вы не верите в рай, то откройте справочник по истории и убедитесь, во что люди верили раньше – в этот самый край края земли, мистический остров «Туле» – там, далеко на Севере, куда вы, господин проверяющий, уж конечно, никогда не доедете и не доплывете.
В конце концов их с этим названием все же оставили в покое, однако в Москве и Питере им перекрыли весь кислород наглухо. Все концертные площадки, все клубные сцены были теперь для них недоступны.
Рок-группа «Туле» играла лишь у себя дома, в Логове. Да и то теперь уже совсем не играла, потому что они лишились классного барабанщика. А найти нового ударника – дятла в такую группу, как «Туле», ой как не просто.
Студию они устроили в подвале – толстые кирпичные стены старого московского особняка в Пыжевском переулке в Замоскворечье глушили все, даже звуки мощных электрогитар.
Особняк на Пыжевском и был Логовом Рейнских романтиков, а также штабом сбора всех частей перед большими военными шоу, пунктом отправления в дальние поездки и местом, куда так приятно возвращаться.
Такое уютное логово – восемь комнат анфиладой с большим залом, небольшая восхитительная мансарда с застекленной террасой – никакого зимнего сада, всей этой бабьей белиберды с цветами – там они хранили военную амуницию. А внизу огромный подвал – тут и музыкальная студия, и комната собраний, и вход на склад. А рядом магазин – настоящий армейский магазин, лавка для своих, все что надо для военных шоу и исторической реконструкции – от солдатских ремней, пряжек и пуговиц до киверов, касок, шинелей и сапог.
Особняк в Пыжевском в прошлом был куплен отцом Олега Шашкина. Шашкин – Жирдяй сколько помнил себя, всегда любил отца. И всегда они жили хорошо, богато. Отец занимался большим бизнесом, дома появлялся нечасто. Он женился трижды, но ребенка имел лишь одного – Олега. Все свое детство Олег провел в частной школе и на попечении учителей французского и английского языков. Он уже учился на третьем курсе (платно, конечно) исторического факультета МГУ, когда пришла трагическая весть – отец разбился на вертолете под Ханты-Мансийском. Полетел в непогоду в пургу что-то там инспектировать по бизнесу и поплатился жизнью.
Олег Шашкин получил после отца все, что не досталось мачехе. Большие деньги и этот вот особняк в Замоскворечье, гараж, полный машин разных марок, и еще акции и счета в банке в Австрии, и почти все это он с радостью отдал… нет, конечно, не отдал вот так просто – передал в управление, в распоряжение своему другу, нет… гораздо больше чем другу – Дмитрию Момзену.
Если и есть на свете святая чистая мужская дружба без всех этих грязных примесей и инсинуаций на тему голубизны, то это их с Момзеном случай.
Они познакомились в Московском университете. Момзен не принадлежал к богатому классу, о своем прошлом не особо распространялся, в университете посещал собрания Исторического клуба. Он был старше – высокий блондин, атлет, друживший со спортом, поездивший по миру, знающий жизнь вдоль и поперек, и тут и там, за бугром, умеющий рассказать так много всего интересного.
Он покорил Олега Шашкина с первого взгляда, с первой их беседы. Он, конечно, не мог заменить погибшего в авиакатастрофе отца. Но он стал больше чем отец. Он стал предметом обожания и поклонения. Он стал истинным кумиром.
В нем Олег Шашкин по прозвищу Жирдяй видел все то, о чем грезил во сне, все то, чем хотел обладать.
Этот самый убийственный бешеный, отвязный романтизм бытия, необъяснимый словами…
Когда вы таскаете на себе сто тридцать килограммов собственного веса, собственного жира, от которого, несмотря на все диеты, несмотря на все усилия, весь этот долбаный триумф воли, никак не можете избавиться, говорить о романтизме смешно.
Но сердцу ведь не прикажешь. Даже под слоем жира в груди сердце порой бьется так, что…
Хочется кричать на весь мир от счастья, а потом плакать от боли где-нибудь в уголке, когда никто вас не видит.
Но сегодня Олег Шашкин плакать не собирался.
Утром он плотно и вкусно позавтракал в кафе на Полянке и сейчас вернулся домой в Логово с кучей пакетов в руках из магазина «Возьми с собой» – бургеры, кофе в пластиковых стаканах, свежая выпечка, пирожные, плюшки…
Да, да, именно плюшки с корицей…
Все Рейнские романтики, несмотря на суровость стиля милитари, который они активно культивировали, плюшки обожали.
Шашкин спустился в подвал, миновал сумрачную студию с погашенными софитами и прошел в комнату собраний – небольшую, с кожаными диванами и креслами и огромной плазменной панелью на стене. Компьютерное телевидение – они уже давно признавали только его.
Дмитрий Момзен полулежал на кожаном диване – ленивый и праздный в это утро и щелкал пультом, выводя на огромный экран фотографии из Интернета.
Из динамиков мощной стереосистемы тихо, ненавязчиво лилась Giovinezza. Хор итальянских теноров браво исполнял итальянский фашистский гимн.
На огромном экране на стене возникла фотография времен Маньчжурской кампании – стайка лощеных японских офицеров в идеально подогнанных мундирах, шинелях внакидку и до блеска начищенных сапогах. У каждого офицера на носу золотые очки, а в правой руке плотно прижат к бедру… нет, не самурайский меч, а офицерский палаш.
Или все же самурайский меч?
Олег Шашкин застыл с пакетами в руках и вперился в картинку с живейшим любопытством.
– Положи все на стол. Кофе горячий? – спросил Дмитрий Момзен.
– Двойной латте, как ты любишь, без сахара.
– Спасибо.
– Классная фотка, – сказал Олег.
– А эта?
Дмитрий Момзен кликнул пультом, и возникла новая фотография.
Те же японские офицеры почти в такой же геройской позе на фоне голых повешенных. Самая настоящая, не бутафорская, виселица, а на ней в петлях – трупы. Голые женщины с телами, как белый фарфор.
– Маньчжурия. Год, кажется, тридцать седьмой, – прокомментировал Дмитрий Момзен. – А это годом позже, но тоже Маньчжурия.
На снимке снята просто куча. Можно подумать, что самый обычный мусор, но это не мусор, это отрубленные человеческие головы, в основном женские.
– Китаянки, – Момзен под звуки итальянского марша укрупнил изображение. – Вот как они там с ними поступали.
Олег Шашкин кивнул, сгрузил все пакеты, что до сих пор занимали его руки, на низкий круглый стол из беленого дуба.
– Когда видишь на фейсбуке все эти наши смешные потуги… Путь самурая, искусство войны… Наших бедных желторотых офисных цыплят, которые что-то там лепечут в комментариях по поводу порток хаками, самурайских доспехов и лапши удон… Вот если это реконструировать, показать, как оно все было на самом деле…
– Это же китайцы, – сказал Олег Шашкин. – Они их тогда в Маньчжурии за людей не считали.
– Да, если кого-то совсем не считаешь за человека, тогда, конечно, наверное, проще. Намного проще, – согласился Дмитрий Момзен. – Ты как думаешь?
– Я вообще-то, Дим, не знаю, как-то не думал об этом.
– Намного проще, – повторил Дмитрий Момзен и кликнул пультом опять.
Новый снимок.
Изнасилованная женщина.
Ноги широко распялены, юбка задрана на голову.
Белое фарфоровое тело.
Воткнутый штык.
Итальянские тенора – фашисты сладкоголосо пели что-то про Абиссинию, мужество и военный поход.
– Кофе горячий? – повторил свой вопрос Дмитрий Момзен.
– Да, я торопился, как мог.
– Пешком или на машине?
– Пешком, как ты велишь, после завтрака.
– Тебе надо больше двигаться. Ты парень храбрый, здоровый, сильный, но тебе надо быть подвижным, ловким. И еще тебе надо…
– Что?
– Да так, ничего.
– Нет, скажи, – Олег улыбался… то есть пытался улыбаться.
– Надо учиться переступать через некоторые вещи. Ну и через себя тоже. Через «не могу», «не хочу», через то, что коробит или пугает.
– Я стараюсь, ты же знаешь, я очень стараюсь.
Убийственный романтизм бытия… Они говорили как ни в чем не бывало о самых простых, но очень важных вещах.
На фоне фотографии изнасилованной китаянки, пригвожденной к земле японским штыком.
Олег Шашкин внезапно ощутил, что тошнота глубоко внутри начинает подниматься и…
– Мне надо отлить, – сказал он нарочито грубо, хрипло.
Все Рейнские романтики очень ценили такую вот брутальность в патовый момент.
Он оставил Момзена наедине с экраном, кофе латте и итальянскими тенорами, быстро, как мог, поднялся по лестнице, обливаясь потом, и плюхнулся на широкий подоконник – это вот маленькое узкое окно во внутренний двор у самой лестницы в подвал, оно всегда открыто.
Не то чтобы он чувствовал дурноту, дрожь или там боялся чего-то… Этой вот старой фотки, что ли, в Интернете? Просто на одну секунду ему почудилось…
Белое женское тело – гладкое, как китайский фарфор. Задранная юбка скрывала лицо бедняжки. Но все остальное так щедро выставлено напоказ.
Гладкие ноги, упругие ляжки, тонкие щиколотки. У Машеньки ноги еще красивее. Он видел ее в шортах. Он видел ее в платье. Он видел ее в том классном костюме для верховой езды – бриджи в обтяг, сюртук и этот черный шлем, из-под которого выбиваются пряди рыжих волос.
Рыжая Машенька…
Сердце в груди забилось сильно и сладко. Олег Шашкин по прозвищу Жирдяй дотронулся до створки окна. Он вспомнил.
Они ехали на машине. Они опробовали недавно купленный и отремонтированный армейский «УАЗ», с которого сняли брезентовый верх, превратив его в открытую военную тачку. Они с Момзеном рулили по колдобинам пустыря у железнодорожной станции, пробуя сцепление и передачу. А затем рванули через парк напрямик по аллее к озерам.
И она возникла из чащи как видение, как лесной дух. На гнедой лошади! Она мчалась галопом через лес на гнедом коне, точно уходила от злой погони.
Нет, нет, нет, конечно же, нет… Она просто появилась на аллее. И конь был – самой обычной гнедой ленивой пузатой кобылой из клуба верховой езды, что в парке. И не гнался за ней никто.
Это они чуть не сбили ее там, на парковой аллее. Момзен чудом выкрутил руль вправо, и они разнесли бампер о старую липу.
Олег Шашкин выскочил из «УАЗа», не помня себя, бросился к всаднице. Она не пострадала. Только вот у старой кобылы случился чуть ли не обморок от пережитого шока. И она сразу навалила с испугу огромную кучу дерьма.
Пахло конским навозом…
Это первое, что врезалось в память Олегу Шашкину по прозвищу Жирдяй.
Второе – что у девушки рыжие волосы и глаза как фиалки.
Она стала орать на них, что они придурки и сволочи, ездят так только одни лишь идиоты ненормальные, а они и есть эти самые ненормальные идиоты, потому что тут парк и конный клуб и много детей катается и вообще…
Момзен кратко, но с большим чувством извинился: девушка, простите, мы не хотели, мы честно не хотели…
Олег Шашкин что-то бормотал, все гуще, все неудержимее заливаясь краской под ее гневным взглядом. Словно его обварили кипятком.
Этакая здоровенная туша… толстый пацан в армейских брюках из камуфляжа, в черной майке, в татуировках, бритый наголо.
Он тогда еще и голову брил, как идиот…
Он и сейчас бреется наголо…
Это она обозвала его идиотом… нет, не его, ИХ, а потом…
Она взглянула на него сверху, с седла.
Старая гнедая кобыла все еще продолжала неудержимо какать, содрогаясь всем своим телом.
Девушка нахмурила темные брови и сказала, что ее зовут Машенька.
Не Маша, не Мария, а вот так – Машенька.
Потом она велела Олегу Шашкину подержать стремя и спрыгнула с лошади. Та наконец угомонилась.
Девушка взяла лошадь под уздцы и пошла по аллее. А он отправился, поплелся, полетел, как на крыльях, за ней следом.
Проводил ее до самого клуба, до самой конюшни.
Дмитрий Момзен в тот день ничего ему не сказал.
Сидя на широком подоконнике в проходном закутке, видя перед собой широкую анфиладу комнат Логова Рейнских романтиков и одновременно через окно внутренний двор, вымощенный плиткой, Олег ничего этого не замечал – он вспоминал в мельчайших деталях тот их самый первый день с Машенькой, как они шли через парк вдвоем.
Да, пахло конским навозом.
Он полюбил этот запах с тех самых пор.
Солнечные лучи пробивались сквозь зелень и пятнали траву.
И еще пела какая-то птица… назойливо так и сладенько пи-и-и-и! Отчего-то сейчас воображалось, что это пел соловей.
В тот день Олег Шашкин по прозвищу Жирдяй поклялся себе страшной клятвой Рейнских романтиков, которую не нарушал еще ни один Рейнский романтик, что похудеет, сбросит вес до восьмидесяти килограммов.
Он так и не похудел. Он не смог.
Машенька что-то говорила – и тогда, и потом. Она смеялась, она так нежно, заливисто смеялась.
Перед глазами возникла китаянка с задранной на голову юбкой, раскинутыми ногами. Штык вошел глубоко в самую плоть.
Сейчас об этом совсем не страшно думать, совсем, совсем…
Олег Шашкин вздохнул – ему захотелось выпить сладкой кока-колы и съесть еще один бургер.
Глава 4
Машенька
День Машеньки Татариновой складывался из череды приятных и неприятных вещей.
К неприятностям дня можно, пожалуй, отнести утренний ад общественного транспорта – поездку на двух переполненных рейсовых автобусах и жуткой маршрутке из дома на работу. И вскочивший прямо на носу алый прыщик. Вот, пожалуй, и все дневные гадости.
Приятных вещей – намного больше. Во-первых – новенькая блузка в песочно-коричневую клетку. Да, да, тот самый неповторимый принт английского Barberry. Она купила блузку по Интернету, в общем-то там ее продавали за настоящую люксовую вещь. Но денег просили подозрительно немного. И Машенька не устояла, кликнула на «корзину» «купить».