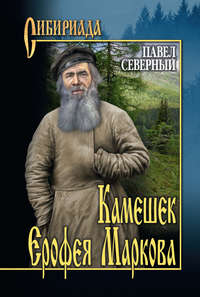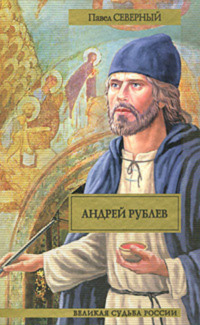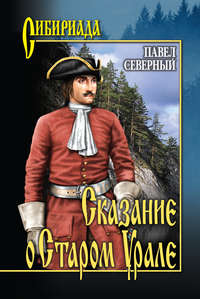Полная версия
Связанный гнев
– Да как же, Кесиния Архиповна, в такие годы?
– Говорила уж тебе, что высохла, а живу. Мне ведь легко вам помогать. Старуха. С виду вовсе монашка. Кто подумает, что тайного революционера разыскиваю. Ладно. Соловьев баснями не кормят. Садитесь, кому где глянется.
– Чем, мамаша с дочкой, станете нас угощать?
– А чем наказывал. Пельмени налепили.
– Дельное блюдо для такой знаменательной встречи. Садитесь, Макарий. Решили мы вчера, что ты завтра с Пахомовым в Челябу подашься. Хотят тебя люди повидать. А там от них и получишь наказ, где и как тебе рабочее дело продолжать. Садитесь! Пельмени едят горячими.
В дверях горницы с блюдом в руках появилась Татьяна, дочь Рыбакова.
Глава VI
1Солнечный полдень. У Кустовой в горнице на окнах золотились замерзшие стекла. Стол под белой скатертью. На нем самовар, посуда, вазочки с медом и вареньем, шаньги, на тарелках закуски: холодная телятина, селедка в сметане под кружочками лука, соленые огурцы и маринованные рыжики. На хозяйском месте за столом Анна Кустова, возле нее Лукерья Простова, а против хозяйки миасский пристав Камышин. Перед ним графин с водкой.
Камышин – мужчина грузный. Шея у него красная и лицо припотело. Под закуску он выпил не одну рюмку, осоловелыми глазами временами пристально поглядывал на Простову. От его взглядов она конфузилась и, допив чашку чая, встала.
– Благодарствую, Анна Петровна. Пойду погуляю. Голова тяжелая. Должно, переспала седни.
– Погуляй. Денек радостный. Чтобы не было скучно, Васютку с собой прихвати. Он на язык бойкий.
– С вами, господин Камышин, не прощаюсь, потому скоро вернусь.
Пристав, подчеркнуто вежливо привстав, поклонился ей, но ничего не сказал, так как дожевывал кусок телятины. Простова ушла. Пристав, проводив ее взглядом, кончив жевать, сказал:
– До чего приятная дамочка!
– Новая приятельница.
– В гости приехала?
– По делу заехала, но уговорила ее погостить.
– Для бледнолицых барынек воздух Тургояка, прямо сказать, лекарственный. Кто такая?
– Простова из Шадринска.
– Уж не Гришки ли Простова благоверная?
– Она.
Пристав, нахмурившись, покачал головой. Налил рюмку водки и выпил:
– Простов поганый человек. Вся его личность в уголовном тумане. Пьяница. Хорошо его знаю. Купеческий саврас без узды. Бывает же так. Такая приятная женщина шалопаю досталась.
– Поживет у меня, передохнет от мужниных художеств. Обижает он ее.
– Что можно ждать от поганого человека? Если вздумает сюда явиться, немедля меня зовите. Приму дамочку под защиту.
– Сами не управимся, позовем вас на купеческую морду лоск наводить. Мы слыхали, вы мастер на этот счет.
– При известном настроении могу. Простова отлакирую с удовольствием.
– Кушайте, Мирон Сергеевич. К рыжикам, гляжу, еще не касались. Неплохие грибочки.
– У вас все первый сорт. Сами посудите, всю еду в одно брюхо не сложишь. Вон как за последний год отъелся. Жирноват ведь? Жена даже обижается на мою грузность. Кроме того, при хождении одышка одолевает. Сейчас выпью последнюю рюмашку и попрошу налить чаю покрепче.
Анна налила стакан чая.
– Варенье сами по вкусу выбирайте. Мед в той вазочке.
– Первый стакан выкушаю с малиновым. Малиновое у вас просто удивительное. Сами варите?
– На это у меня бабушка Семеновна мастерица.
– Мудрая старуха. Только нашего брата не любит. Так прямо и говорит: «Не по душе мне селедочное племя с кокардами». От крепостных времен, видно, в ней нелюбовь к полиции. Хотя и нынче полиция у народа не в чести после пятого года. Не хотят люди понимать, что полиция – оплот власти государя императора.
– Как прикажете понимать, Мирон Сергеевич, ваш заезд ко мне? Просто ли обо мне соскучились? Либо дело какое дорогу указало и заставило к моему дому свернуть?
– Еду из Златоуста. Вызвало жандармское начальство. В городе опять мастеровые копошиться начинают. Мы надеялись, что залили пожар революции, да, видать, не доглядели, кое-где еще головешки тлеют. Вот и приказано глядеть в оба, чтобы головешки не загорелись. К вам приехал разговаривать по четырем пунктам. Налейте еще стакашик. И позвольте приступить к беседе делового характера. Первый пункт разговора политический. Начальство требует от вас, Анна Петровна…
– Требовать, Мирон Сергеевич, ваше начальство от меня не может, потому я у него не в подчинении, не на оплате.
– Видите ли, Анна Петровна, начальство знает, что ваше слово неоспоримо, особливо у женского сословия. Вот и нужно, чтобы вы это сословие вашей мудростью сдерживали, не дозволяли ему супротивничать против хозяйских законов и порядков на промыслах.
– А само начальство немым стало? Или гордость в нем такая великая, что ему не с руки с простым народом разговаривать?
– Про то ничего сказать не могу. Потому начальство со мной не откровенничает о своих замыслах. Но ведь вам-то с народом проще по душам поговорить.
– По душам разговариваю по своему желанию, а не по приказу начальства. Обозлили народ, а как его успокоить, не знаете. У народа пятого годика разумнее меня советники завелись. Вот пусть им ваше начальство прикажет.
– Вам же не поглянется, если в ваши казармы полиция начнет наведываться?
– В моих казармах бабы грамотные. Это пусть полиция учтет. Пусть вспомнит, как прошлой осенью ингушей бабы лопатами крестили на Григорьевском промысле. Полиции теперь люди не больно пужаются. Глядите, не больно засылайте своих чинов на миасские промыслы. Пока зима, а посему спите спокойно. Только зимой не тревожьтесь. Потому ссадины и ожоги пятого года на спинах у баб еще саднеют. Мое слово для бабы – закон в других делах, а в тех, за которое ваше начальство печется, оно не дороже плевка. Недоволен народ хозяйской блажью. Тут вам его ничем от неудовольствия не отучить. По первому пункту вашей беседы мы не договоримся. Пусть ваше начальство ко мне явится, когда что противозаконное сотворю.
– Но ведь начальство может найти людей, кои против вас пакость сотворят. Обвинят в чем-либо. Нынче ведь листок из плохой книжки в сибирскую сторону дорогу указывает.
– Оклеветать жандармы умеют. Знаю ихние фокусы. Только и они знают, что я не полоумная и не пужливая. Припомните, как в пятом годике уфимские жандармы меня к Песковскому делу пришивали, да ниточка у них порвалась, потому была гнилая.
– Да! Для политической помощи для государственных слуг вы не пригодны.
– Начисто не пригодна.
– Расстроили меня вашей категоричностью. Придется еще рюмашку для успокоения пропустить.
– Пейте на здоровье.
– Второй пункт личного характера, просьба моей благоверной. Прослышала она про одну вашу корову хорошего племени. Наказала мне откупить у вас от нее приплод. Что скажете?
– Догадываюсь, какая буренушка ее заинтересовала. На ваше счастье, недавно отелилась.
– Бычком?
– Чернявенькой телочкой.
– Какая за нее цена?
– Так возьмите для Прасковьи Федоровны. Вроде как подарок.
– Да это, пожалуй, неудобно, но перечить не стану. Благодарю от себя и от жены.
– Теперь понимаете, что не всегда несговорчива.
– Сложный вы человек, Анна Петровна. Ужасно сложный по смелому разумению по многим вопросам. Теперь третий разговор. Начать его придется так: с месяц, а может, чуть и больше, приехал в Сатку на жительство рязанский купец-рыбник. Купил у Прохорова дом да золотые прииски. Прохоров охотно продал, потому сгорел от вина. Так вот этот рязанец решил золотую рыбку ловить. Познакомился я с ним. Видать, друг другу понравились. Порассказал он мне про свою жизнь.
– По фамилии кто?
– Кустов Петр Тереньтевич. Слыхали про такого?
Анна, не отводя взгляда от пристава, спокойно ответила на вопрос:
– Доводилось.
– Выходит, ваш законный супруг? Говорил о вас с благоволением. Ни в чем не винил.
– Сказал про причину, из-за которой раздельно живем?
– Упаси бог! Словом не обмолвился о таком. Живет памятью о вас и воспитанием дочери. По должности своей я обязан быть любопытным. Спросил, зачем решил вдруг золотом заняться, а он душевно и просто ответил: «Хочу быть ближе к жизни Анны». Подумайте только, какая завидная и редкая в наше время привязанность мужа к жене после столь длительной разлуки. Она меня до слезы растрогала.
Пристав наблюдал за Анной. Видел, как ее рука согнула в кружок серебряную чайную ложку.
– Не волнуйтесь! Худого Петр Терентьевич ничего не замышляет. Просил только меня привезти ему от вас дозволение на свидание. Сразу не решайте. Подумайте.
– Как ни пряталась, а все-таки нашел.
– Годы искал, и нашел. Все одно, как вы нашли свой фарт.
– Зря искал.
– Как жестко сказали!
– Зато правду.
– Понимаю. Не из-за разбитого блюдца изволили его с родной дочерью покинуть. Была причина, но любопытствовать не буду. Уважаю тайну чужой семейной драмы. Я ему говорил, что мне совсем неудобно к вам с его просьбой ехать. Говорил ему: имею понятие, что в чужую личную жизнь, как в спальню, можно отворять дверь, только постучавшись. Но он так убедительно просил оказать ему помощь, что я согласился.
Анна встала из-за стола. Подошла к окну и, не оборачиваясь к приставу, сказала:
– Скажите Петру, пусть приезжает, если есть охота со мной повидаться.
От неожиданности у пристава от слов Анны на лбу выступили капли пота. Стерев их ладонью, он прерывающимся от волнения голосом сказал:
– Боже мой, какое благородство женской душевности проявили.
– Что о дочери говорил?
– Гимназию она кончила. Карточку с нее показывал. Вылитый ваш портрет. Если не обидитесь, то добавлю, что пригожесть ее молодости еще цветистее вашей.
– Совсем она меня не знает. Чужая ей. Пятимесячной покинула.
– Мать вы ей. Не узнаю вас. Тревожная стали. Пустяков пугаетесь. Посему последний разговор затевать не стану. Он вплотную к вашему сердцу подходит.
Анна, обернувшись к приставу, смотрела на него привычным для нее взглядом:
– Нет, Мирон Сергеевич, говорите.
Пристав, пожав плечами, закурил папиросу.
– Вы-то с чего волнуетесь? – спросила, улыбнувшись, Анна.
– Говорить будем о господине Болотине.
– Сказывайте.
– Вчера завез ему бумагу, освобождающую его от полицейского надзора и разрешающую вернуться к прежнему месту жительства – в Москву.
– Какая великая радость для него!
– А для вас?
На вопрос пристава Анна не ответила, но снова села к столу.
– Понимаю ваше молчание… Конечно, в моей власти задержать его здесь. Сообщу, что вел себя за ссыльный срок не совсем правильно. Только скажите. Донесу рапортом. Прошлым летом на приисках была обнаружена запрещенная литература. Вот ее и припишу господину Болотину.
– Но она же не его?
– А разве это важно? От меня зависит сделать его собственником той литературы. Мне ведь известно, что для вас он человек небезразличный.
– Рада за Михаила Павловича. Не место ему здесь. Вольность любит.
– Опасную вольность. Упрячет она его в Сибирь.
– Всякий человек в свою звезду верит.
– Тоже правильно. Уверены, что он со своей вольностью дальше вашей заимки не уйдет?
– Все может быть. Только решать свою судьбу будет без нас. Сделайте милость, поперек дороги не становитесь, Мирон Сергеевич. Дайте слово!
– Даю!.. Думаю, можно домой трогаться. Лошади отдохнули, сам изрядно выпил и закусил, с вами договорился. Телочку дозволите с собой захватить?
– Рановато ее от матери отрывать. Сама доставлю.
– Как прикажете. Да, чуть не забыл. Захар Степанович Луганин прислал вам поклон. Новости про него слышали?
– Нет.
– Как же так? Совсем затворились в своем доме. Взбудоражил он весь уезд, а может, даже и весь Урал. Отказался богатей свои промыслы продать бельгийской компании. Сам решил весной мыть золото. Сколько лет пески лежали втуне, а тут на тебе. Решил в постные пески капитал закопать. Чудит! Отдал бы иностранцам, так нет – решил в патриотизм играть. Из Кушвы идет эта болезнь нетерпимости к иностранцам. Воронов Влас ей корень. Выдумал сдуру Влас, что русское золото должны добывать из уральской земли только русские руки.
– Какой же Луганин молодец! Недаром считают его умником. Правильно делает. Нечего иноземных голозадых воров в новую одежду рядить на уральском золоте.
– Стало быть, и вы такого же мнения? Глядите, Анна Петровна, вороновская блажь о сем не по душе сановному Петербургу. Могут оттуда цыкнуть на кушвинского Власа.
– Что вы! Да кто осмелится на него цыкнуть? Влас Воронов – голова всем нашим золотопромышленникам.
– Не все они его соратники.
– Супротивники не в счет. Мелочь. Шавки, лающие из подворотен.
– Говорю вам, что скоро найдется на него крепкая рука. Зажмет его дыхание, и задохнется человек. По секрету скажу: по его делу Петербург послал сюда высокого сановника.
– Да хоть двух! Влас от своей мысли не отступит. Кто я? Никто! А сама неделю назад купила прииск на Кочкаре от Простовой, чтобы ее муженек не продал его чужеземцам.
– Она хозяйка прииска?
– От отца в наследство достался.
– Стало быть, и вы золотопромышленница? В добрый час! Выходит, золото к золоту. Как хотите, такую новость надо обмыть рюмочкой.
Пристав налил себе водки. Встал, держа рюмку перед собой, сказал торжественно:
– За ваше здравие, Анна Петровна! И, как говорят, «золото на грязи».
После отъезда пристава Анна, одевшись, ушла из дому на берег озера. Весть о приезде на Урал мужа, взволновав, не испугала. Зато до озноба во всем теле напугала весть о полученной Болотиным бумаги о свободе. Весь разум заняла мысль о боязни потерять любимого. Вспомнила его прежние мечты о Москве, о прерванном учении в университете и вновь беспомощно растерялась, сознавая, что ей нечем его остановить около себя, если решит уехать. Любила его. Но не знала, любит ли он ее. Если бы знала о его чувстве, была бы спокойна. Тогда бы верила, что одним ласковым словом, одной слезинкой удержит его для своего счастья. Спрашивала себя, что делать, и, не найдя ответа, решила не мучить себя догадками, а немедля поехать к любимому, спросить, останется ли он возле нее.
К Миасскому заводу Анна подъезжала, когда из-за Ильменских хребтов показалась полная луна. От ее света на лесной дороге лежали шали узорных теней. Снега переливались блестками. Вспыхивали на них то синие искорки, то будто скользило по ним голубое пламя, а от этого казалось, что студенее становился мороз.
Монотонный скрип полозьев, фырканье поседевшей от инея лошади успокоили Анну. Нашлись мысли, которых не могла найти во время прогулки возле озера, и она была готова, приехав к любимому, ни о чем его не спрашивать, побыть с ним, терпеливо ждать, когда сам скажет о своем неизменном желании уехать в Москву…
На заводе Анна оставила лошадь на постоялом дворе, как обычно, пешком пошла в школу по пустынным, лунным улицам. Еще издали увидела свет в окнах Болотина. Подойдя к школе, с завалинки заглянула в освещенное окно, но стекла промерзли, потому ничего не увидела. Дверь открыл сторож Федот. Увидев Анну, старик от удивления всплеснул руками:
– Анна Петровна! Нежданно-негаданно. Милости прошу.
– Дома?
– А где ему быть? К Кирпичниковым звали на вечеринку, так не пошел. Вот обрадуется…
Тихонько отворив дверь, Анна вошла в комнату Болотина. Увидела любимого у стола. На полу раскрытый чемодан. Болотин, не оборачиваясь, сказал:
– Федот, поставь самоварчик! До того чаю захотелось!
Не спуская глаз с чемодана, Анна позвала:
– Миша!
Болотин обернулся, бросился к ней:
– Аннушка! Дорогая, раздевайся скорее. Замерзла-то как!
Анна в его объятиях боялась пошевелиться.
– Аннушка! Да что с тобой? Раздевайся! Дай помогу. Встань к печке. Федот только недавно трубу закрыл.
Анна разделась, покорно подошла к печке, прислонилась к ней.
– Что с тобой, дорогая? Случилось что-нибудь?
– К отъезду готовишься?
– К какому отъезду?
– Чемодан собирал. Пристав Камышин…
Болотин засмеялся:
– Глупая. Рылся в чемодане. Искал чистую рубаху. В гости звали. Рубаху не нашел и не пошел.
– Господи, а я-то думала…
– Сколько раз просил тебя не думать, а спрашивать. Камышин уже успел побывать у тебя?
– Сегодня был.
– Вот чудак. Поторопился донести. Сам собирался к тебе завтра. Получил, Аннушка, разрешение вернуться домой. Кончилась высылка.
– Знаю.
– Рада?
– За тебя рада. Поедешь? Не бойся сказать правду.
– Нет, не поеду.
– Миша! – Анна подошла к нему. Упала перед ним на колени. Охватила руками его ноги. Прижалась к ним. – Правду сказал? Со мной останешься?
– Встань, милая. Разве можно так? – Болотин поднял Анну на ноги, усадил. Сам встал перед ней на колени. Смотрел на нее, видел, как из ее глаз струились слезы по бледным щекам. – Успокойся. Неужели могла подумать, что так просто уйду от тебя? Неужели думала, что могу оставить тебя, забыв всю радость, подаренную тобой за два года? Что ты, Аннушка? О чем плачешь?
– Люблю тебя! Неужели, Миша, не знал, что давно люблю тебя! Не могу больше молчать об этом! Жить без тебя не могу! Ума лишаюсь, как подумаю, что покинешь меня. Вся твоя. Не только с ласками была возле тебя. Душу возле тебя грела. Неужели не передумаешь и не поедешь в Москву? Со мной останешься… Любишь меня?
После ее вопроса Болотин молча поднялся с колен. Стоял у стола, закрыв лицо руками. Анна переспросила:
– Любишь?
– Наверное, люблю. Когда получил бумаги, несказанно обрадовался, но исчезла радость, как вспомнил о тебе. Понял, что, если решу уехать, с половины пути вернусь.
Слушала Анна, низко склонив голову. Слышала ясно каждое слово Болотина, а самой казалось, что будто слышит их не наяву. Поднялась со стула, подошла к Болотину, поцеловала его руки, прижатые к лицу.
– Спасибо, Миша, большое спасибо, родной!
Отняв руки от лица, Болотин видел, как она взяла с постели свою шубу.
– Куда ты?
– Домой.
– С ума сошла?
– Хочу остаться одна с радостью. Понять, запомнить хочу в одиночестве, чтобы навек сохранить радость в памяти.
– Никуда тебя не отпущу. Поняла? Моя ты!
– Конечно, твоя.
Болотин обнял и крепко поцеловал Анну. Шуба из рук Анны упала на пол. Она слышала шепот Болотина:
– Останься со мной до утра. Мы же сознались друг другу…
Анна ответила так же шепотом:
– Останусь…
2К казарме, прозванной Девкиным бараком, в сугробных наметах протоптан глубокий желоб тропы. Тусклый свет в окнах казармы.
Просторную ее внутренность освещала потолочная лампа с закоптелым стеклом. Свет от огня желтый. На бревенчатых стенах бусины затвердевшей смолы. На полу рогожи. На входной двери в пазах кошма, в пушистом инее, обледеневшая у пола.
Вдоль стен – деревянные кровати за ситцевыми пологами, разными по цвету и рисункам. Длинный стол из толстых досок на козлах, возле него лавки. Возле рукомойника и кадки с водой в углу сложены в кучу старательские инструменты. Дрова у печки, а на снопе соломы слепые щенята сосут матку. Жителей в эту зиму негусто. Невидимые за каким-то пологом стукают часы-ходики. А у среднего окна, поджав под себя ноги, сидела Амина и пела старинную унылую башкирскую песню, аккомпанируя себе на гитаре.
На кровати с отдернутым пологом лежала с изможденным лицом Катерина, обезножившая с осени от ревматизма. Ее дочь Дуняша, девочка-подросток, худенькая, вся из одних косточек, облокотилась на стол, положив голову на левую ладонь, задумавшись, ела из глиняной миски пшенную кашу. Светлые, как солома, волосы девочки заплетены в две жиденькие косички с алыми ленточками. Косоплечая грудастая Тимофеевна, сидя на дровах, щипала от полена лучину. Аккуратно одетая Антонина ставила самовар. Отодвинув от стола скамейку под свет лампы, читала книжку Паша. На печи лежала Зоя-Рюмочка и лущила семечки. Подле рукомойника, подоткнув подол, в одном лифе, стирала белье Алена. В щелях бревен задорно скрипели сверчки.
– Дуняша!
Девочка, очнувшись от раздумья, вопросительно посмотрела на Тимофеевну:
– Чего тебе?
– О чем призадумалась, девочка?
– Песню слушаю. Какая она не схожая с нашими по напеву.
– Башкирская. Оттого и не схожая.
– Мне глянется, Амина хорошо поет.
– Тоскливая больно, – вздохнув, сказала Зоя. – Но слушать ее приятно, потому Амина поет. С таким голосом ни в жизнь бы по приискам не моталась.
– А куда б подалась?
– Пошла бы, Тимофеевна, в шантан. Шансонеткой петь дуроголовым купцам. Ногами бы в крахмальных юбках дрыгала.
– Скажешь тоже! Эх, Зоинька… Амина плясать не умеет. Вот ты на это мастерица. В пляске легонькая, будто перышко. Но зато голосочка у тебя нет.
– Знаю.
– Люди сказывали, будто ты на ярмарке в балагане представляла. Поди, врут, завидуя твоей вальяжности?
– Сущая правда, Дуняша! Турчанкой наряженная в шальварах в танце голым пузом крутила. Но не судьба мне балериной быть.
– Что так?
– Характер гордый. Купец на сильном взводе мне сигарой холку прижег. Мне бы стерпеть и красненькую с него за нахальство взять. Так нет! Я его по морде дрыбалызнула, да так ловко, что вставные челюсти его в черепки раскрошила. Он меня в полицию поволок. Спасибо, знакомый пристав признал, что правильно поступила. С ярмарки все же пришлось убраться. С весны решила в театр поступить. Ревнивых любовниц стану представлять. Здорово они у меня получаются. Прямо будто на самом деле.
– Помолчи, Зоя! Читать мешаешь.
– А я с тобой, Пашенька, будто не разговариваю. Умница-разумница. Без малого год одну книжку читаешь. Может, наизусть учишь?
– Эту книжку не один год можно читать. Про рабочий класс написано, про его свободную жизнь. От этой книжки разум светлеет. Мы ведь рабочие.
– Не про нас в ней написано. Мы приисковые. Свободу получим, когда в гроб ляжем либо когда фарт вырвем. Советую тебе, Паша, легче такими книжками зачитываться. За них урядник может сурик из носу выпустить, а казак чубастый мягкое место нагаечкой нахлестать, а то сошлют куда-нибудь, вроде как студента Болотина.
– Об этом не бойся. Прятать умею.
– Зойка правильно толкует, Паша. Мало толку, что в книжках хорошее про нашу будущую жизнь прописано. Такие книжки только мозги у рабочего люда набекрень сворачивают. Аль не видывала, как ингуши с казаками нагайками на промыслах людей пороли. Да и не за книжки, а только за то, что про такие книжки краем уха слышали.
– Думаешь, не настанет время, когда не посмеют нас трогать? Сами стеной пойдем на душителей.
– Тише ты!
– А чего тише? – спросила Алена, перестав стирать. Вытерла о юбку мыльную пену с рук, подошла к столу. – Говори, Паша, полным голосом. Не бойся! Лонись летом на прииске слесарь чинил у нас насосы, так он прямо сказал, что в пятом году народ рабочий только силу свою опробовал. Примерялся, значит. И что обязательно поднимется снова на борьбу за свободу. Только надо подождать. Подождать надо. Дело это сурьезное. Помню, слушали мы того слесаря, а у самих от волнения сердца заходили.
– Говорил он, что труд пойдет боем на капитал?
– Обязательно говорил.
– Так. А кто тогда нас, Пашенька, кормить станет?
– Не печалься, Тимофеевна, народ сам себя зачнет кормить. Своими мозолистыми руками радостней станет свой хлеб добывать.
– Боюсь, что с таких хлебов недолго будем бродить по свету.
– Не понимаешь, Тимофеевна. Придет время, и ты поймешь. Волю почуешь, вздохнешь полной грудью.
– И сейчас к столбу не привязана. Я и сейчас дышу. Смотри, девка, зря из-за книжек по соснам на небо лезешь. За такие речи моего мужика в пятом году в Тагиле стражники убили. С красным флагом шел. Царскую Россию хотел вверх тормашками перевернуть, да только сам, сердешный, помер, когда нагайки в пузе кишки спутали.
– Знаю про такое. Обманули царь и дворяне народ. Зато вдругорядь не обманут. Он говорит, что вдругорядь не обманут.
– Кто?
– Есть такой человек на свете! Нельзя, понимаешь, зря его имя поминать. Есть такой человек! Правду говорю!
– Не кричи! Не глухие мы. Понимаю, о чем речь ведешь. Думаешь, вовсе дура? Молчи про такое.
– Нас ей, Тимофеевна, бояться нечего. Стражнику не донесем. Может, ты донесешь? Тогда смотри. Помни, что у тебя ноги не на болтах, выдергаем, – сказала Антонина.
– Не стращай, Тонька! Не боязливая. В подлюгу меня не обряжай. Из одного теста замешаны с тобой. Только во мне осторожность водится, потому доле тебя на свете прожила. А ты, Барынька, ступай, и шмотки свои достирывай!
– Видать, завидуешь моему прозвищу? При настоящем инженере заместо жены ходила. Старик меня любил. Захотела бы, могла бы его законной супругой стать, – сказала Алена.
– А ты не захотела?
– Именно, что не захотела. Потому поняла, не смогу из-за темноты стать ему верной подругой. Настоящая барыня из меня не выйдет. Из кренделя шанежку не выпечешь. Молодая была, совесть имела. Теперь бы не так поступила. Нахально пролезла бы в инженерши, стала бы фордыбачить над такими, как вы.