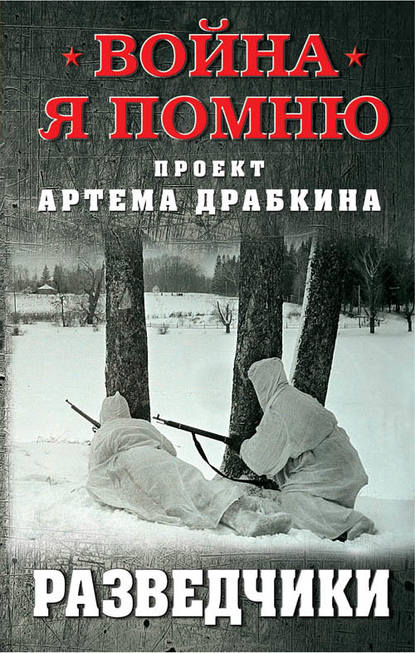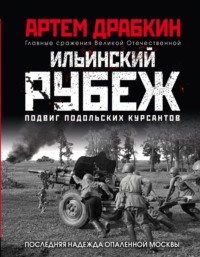Полная версия
Артиллеристы
Как хранили боеприпасы в батарее и дивизионе?
Их с прицепов сгружают и вроде забора огораживают, чтобы не попали осколки. Закрывать их сильно – не закрывали, потому что это невозможно.
Они на поддонах на грунте лежали?
Конечно на поддонах.
Кто в расчетах занимался очисткой их от смазки?
Помощник заряжающего этим занимался. Сказать, что они больно сильно смазаны были, нет. Не так как сейчас консервируют, там мажут очень густо. А тут легонечко, почти что не требовалось.
Получается, что перед самой стрельбой он успевал это делать?
Если где-то требуется, он немного снимал.
Как и когда применяли картечь и шрапнель?
У нас не было картечи и шрапнели, а были так называемые бризантные снаряды, которые взрывались в воздухе. Для этого надо было менять взрыватель. Определялось, что снаряд бризантный, на какую выдержку ставить. Редко их применяли. Особенно ими стреляли в Выборге.
Существовало у Вас понятие боекомплект, норма расхода?
Существовало – 12 снарядов в комплекте. Это тоже в зависимости от обстановки, обычно больше было. Старались иметь его, а при наступлении не ограничивалось. Сколько можно было доставить – доставляли. Уже с 43 года, прорыва блокады, такой порядок существовал. Все не все, но если требовалось, то могли расстрелять.
Получается, что Неприкосновенный Запас, который ни при каких условиях нельзя было тратить, его не было?
До этого не доходило.
По каким целям вы наиболее часто стреляли?
В основном наша цель была – контрбатарейная стрельба. Артиллерийские позиции немцев.
Расскажите о правилах, искусстве такой стрельбы.
Все искусство зависит [усмехается. – А. Б.], непосредственно от расчета тут вроде, как и не зависит. Искусство в точном нахождении цели, а мы в этом были ограничены. Этим занимался взвод разведки. Были полковые разведчики, у которых кроме визуального, было звуковое наблюдение, если возможно, фотография. А у нас для этого не было возможностей. У нас единственное – визуальное наблюдение.
Вы могли бы вспомнить, гаубичные немецкие позиции пользовались у вас приоритетом?
Трудно сказать. Предельная дальность у нас была конечно большая, 17 километров. А стрельба велась иногда на 5–7, 8-12 км. Коррективы нам дали, мы по ним ведем огонь, а сами их менять не могли. В основном дивизион определял сверху.
Могли бы Вы рассказать, как корректировали огонь?
Вроде по науке старался [смеется. – А. Б.], но не всегда ведь получается. Цель, которую мне определили по карте, не совпала с действительностью. Обнаружил визуально. Выстрел, снаряд пролетел, взрыва нет. Это был ДЗОТ. Мне пришлось вносить коррективы: дальность, расстояние. Снова повторяю, есть взрыв – далековато. Беру в вилку. Вилка поближе к нашим позициям – дальше отвожу. Вот определил вилку и последние, как это обычно бывает у артиллеристов, три снаряда – беглый огонь. Тогда поразил.
Какие сильные и слабые стороны ваших орудий можете отметить?
Нашим 152-мм орудиям аналогичны были, я считаю, 122-мм – самые удачные. По качеству стрельбы эти обе пушки превосходили немецкие. По точности.
Как Вы оцените метеобаллистический сумматор?
У нас его не было, у нас были таблицы стрельбы в книгах. Там все возможные варианты стрельбы учтены.
Дульный тормоз Вашего орудия был преимуществом или недостатком?
Видимо преимуществом, как это недостатком?! Он берет на себя силу отдачи.
Я читал, что недостатком были газы, истекающие из него после выстрела и демаскировавшие позицию.
В какой-то мере это верно, но пыли не было в лесах. Был случай не при мне: приехал какой-то фотограф и решил сфотографировать. Расположился для этого недалеко от дульного тормоза, и его сшибло.
То есть Вы даже землю под стволом не поливали, чтобы пыль не поднималась?
Нет.
При ликвидации блокады в январе 44-го, приходилось встречаться с некоторыми особенностями. Мне что запомнилось? Наши огневые позиции были расположены у лесной дороги. С одной ее стороны отделение тяги, с другой – мы. Меня предупредили, что может заехать Ворошилов [смеется. – А. Б.]; что скажешь – ничего не скажешь, даже не надеялся. Я ходил в отделение тяги, к тракторам. Иду, смотрю – едет броневик, в середине «эмка», сзади броневик. Я мог только догадываться, что кто-то из крупного начальства едет. Потом нашему полку за бои под Любанью было присвоено звание Любанского. Затем участвовали в освобождении Новгорода.
Под Новгородом с левой стороны нам была указана цель – станция Медведь и около нее деревня, где находилась крупная немецкая батарея. Эту батарею мы уничтожили. Когда ее освободили, то тут уж видно было, что к чему. Дальше двигались к Оредежи. Получилось, что батарея шла вместе с пехотой впереди, в авангарде. Танков там по снегу я не видел. Они где-то в другом месте проходили. Вели огонь с временных огневых позиций по отступающим немецким войскам. Когда Оредеж освободили, Волховский фронт как таковой перестал существовать, и нас перебросили под Нарву на Ленинградский фронт.
Весь 43 год Вам не очень сильно запомнился?
Было несколько попыток, я бы не сказал прорыва блокады, отвлекающих ударов под Тосно, Любанью.
Тут трудно сказать. Артналет был подготовлен очень сильный, мы не одни были, нас было много. Долго мы не задержались, стали продвигаться дальше, ближе к Новгороду. Новгород тоже относительно быстро был освобожден. Через Новгород наш полк не пропустили, был сильно завален и непроходим для нас, тракторов и пушек.
Чем особенным запомнился прорыв линии Маннергейма?
Запомнился тем, что у финнов было обнаружено на передней позиции орудие на прямой наводке. Нам была поставлена задача – это орудие уничтожить. С этой задачей справились, орудие было уничтожено. А остальные цели были другие пушки, массированный, сильный огонь. Она была быстро прорвана, линия Маннергейма. За 10 дней прошли от прорыва до Выборга.
Перед прорывом ее я с первым орудием ездил на правый фланг к Ладожскому озеру, выявить финские огневые позиции. Тогда трудно было понять, финские они или немецкие. По старым координатам, которые у нас были, мы отстрелялись удачно и благополучно вернулись. Потом в ходе боев были даны кратковременные цели. Борьба была – ближний бой.
На прямую наводку ваши орудия там ставились?
Наши орудия тяжеловаты для этого. В основном ставились орудия более подвижные.
По отдельным ДОТам финским стреляли?
Мы – нет. Полк, может быть, я не знаю. А по укреплениям стреляли 203-мм тяжелые гаубицы.
Вы ваши бетонобойные снаряды не применяли там?
Они не сильно пробивали, больше осколочного действия. Мы на открытых, кроме нашей стрельбы, не проводили.
Когда Вы участвовали в артподготовке наступления, тогда был огневой вал?
Трудно сказать. Нам коррективы дают на уровне дивизиона, а мы непосредственно исполняем. Во взятии Нарвы мы не совсем участвовали. Когда туда прибыли, то это была территория Эстонии. И первое, что отложилось: нам отвели место, орудия поставили, давай огораживать. Лес рубить, землянки готовить. Впереди был хуторок метрах на 300. Приходит женщина: «Вы зачем мой лес рубите»? Нам так это удивительно показалось! Как это мой лес?! Да в такой-то обстановке. Что тут скажешь?
По нам немцы открыли огонь, и она быстро ушла. Атам лесочек определен, колючей проволокой разграничен – мой.
Возвращался я с фронта почти без сознания после тяжелого ранения. Я потерял сознание, потом меня затащили в блиндаж, после до Ленинграда ехал в подвесных носилках в вагоне. Это были множественные осколочные ранения. В Ленинграде я пролежал полтора месяца, потом перевезли в Свердловск – там три с половиной месяца был. Потом демобилизован был с переосвидетельствованием через шесть месяцев – инвалидность третьей группы. Приехал на Родину, образовался новый Буйский район, кадров нет. Меня по линии райкома – в аппарат инструктором. Шесть месяцев прошло, стал проситься, давайте в армию.
На комиссию повторную не пошел. Поездил в армию, но получилось так, что когда меня в райком брали, то по линии секретаря райкома было подсказано военкому: у меня забрали удостоверение личности, взамен его выдали военный билет. Когда я стал проситься, чтобы меня обратно отправили, то военный билет у меня тоже отобрали. Я поехал с одними бумагами без документов. Доехал до областного военкомата, подал рапорт чего и как – в УралВО. Приехал туда – снова 2 рапорта: почему не в форме и почему без документов. Но случилось так, что это было 3 сентября 1945 года, окончание войны с Японией, мой день рождения. И меня обратно [отправили. – А. Б.] как неправильно призванного из запаса.
Что еще запомнилось? Перед прорывом линии Маннергейма мы стояли на Черной Речке, готовились к ее прорыву. К майским праздникам на полк пришли три пригласительных билета в Ленинградский драмтеатр на постановку «Женитьба Бальзаминова». В это число я попал. Подъезжаем к Ленинграду в 12 часу, смотрим – над городом салюты. Приехали, пошли в театр. Нам уж не до содержания постановки, нам интересно, какой народ присутствует. Большинство женщины гражданские, есть военные. Побывал в Ленинграде, потом сразу обратно. Нам на 2 суток разрешили поехать, потом сразу обратно.
Большие были потери от авиации немцев?
Относительно небольшие. Мы со своей стороны старались маскировку тщательную проводить.
Так от чего потери были больше – от бомбежек или от артобстрелов?
Больше надоедали артобстрелы. Авиации большой не видно было. Чем авиация немцев отличалась – это «мессера», охотившиеся первоначально даже за отдельным человеком, по группе людей на открытой местности. Мы один раз попали под бомбежку, несколько неожиданную, при переезде с одного участка на другой. Сами были несколько виноваты. Ночью ехали в теплушках по железной дороге и печки затопили, искорки появились. Самолет засек, вначале пролетел. Посмотрели: «Наш, наш»! Он вернулся и давай нас бомбить. У него неудачно получилось – ночь была лунная и бомбы попали по тени. Но немножко-то он посшибал.
Довелось ли Вам воевать в городах? Какие-то особенности боев можете отметить?
Непосредственно – в Выборге. Нам огневые позиции тут определили, но особенность, наверное, была в том, что мирного населения на освобожденных территориях не было, все уходили. И какой-то, видимо, наблюдатель в Выборге сохранился. Когда мы ехали на рекогносцировку определять, то впереди нас по шоссе взорвалась мина. Точно. Под конец, когда уже отстрелялись, перед самым моим ранением, стояли дома рядом. Снаряды ложились на свободную территорию, где были наши орудия – где-то тоже корректировщик был.
Доводилось Вам стрелять по танкам немецким?
Нет.
Как можете охарактеризовать ваши тракторы?
Тракторы по тем временам нас выручали, другой тяги для нашей техники не было. Позднее стали поступать американские «студебеккеры» и прочие, они для более легких орудий. У нас только тракторы были. Большие марши на тракторах мы, пожалуй, не делали, но с одной позиции на другую километров на 30–40 перебирались.
Что Вы можете сказать о немцах как об артиллеристах и их пушках?
Неважное. А вот почему? Сколько нам приходилось быть под обстрелом, у них получается стрельба по площади, а не по конкретным целям, рассеяно. Редко, очень редко были среди них артиллеристы, которые могли стрелять, засекать. По нашему взводу попали только один раз в место, где стояло первое орудие. Когда я ездил на правый фланг к Ладожскому озеру, попал снаряд в капонир, и в соседней батарее попали точно по орудию. Но что удивительно – один выстрел есть, и больше не стреляли. Нет, у них артиллерия не важная. А чего? У них единственное не совсем приятное орудие – шестиствольный миномет. Под него попадать очень не нравилось. Они по нашим позициям не стреляли, они, в основном по ближним целям.
Как правило, ваши позиции от передовой на каком расстоянии были?
Были километров за 5, за 7, за 8. У немцев как у артиллеристов не учились.
Их службу артиллерийских наблюдателей Вы тоже не перенимали?
Нет, не знаю, как сказать. Вот «рамы» их не нравились, они могли засечь, точно определить местонахождение, если они обнаруживали.
Может, дело в целях, которые перед ними ставили, а не в качестве подготовки? Они по площадям стреляли, а не по конкретным целям?
Кто их знает? Как ни странно, у них существовало такое поощрение – за количество выпущенных снарядов награждали солдат. У нас-то такого не было.
А у Вас за что поощряли, награждали?
Вообще [смеется. – А. Б.] за боевые заслуги, за участие. Как определить – этот солдат хороший, а этот плохой. У нас по положению награждались за уничтоженные орудия, батареи, за подавленные батареи – что доказать сложно, трудно. За уничтоженную финскую пушку на прямой наводке на линии Маннергейма я был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. А раньше за уничтоженную батарею под Новгородом был награжден командир батареи орденом Отечественной войны 1-й степени.
В вашем полку награжденных было немного?
Да, немного, потому что награды давались за конкретный результат. Тут хоть какой героизм ни прояви, какое умение ни применяй – результатов нет, все.
Солдаты, соответственно, были еще меньше офицеров награждены?
Я не знаю, может под конец войны, был период, когда их награждали. А в период войны в моем взводе были награждены: командир первого орудия, командир отделения тяги, а остальные все были награждены медалью «За оборону Ленинграда». А больше, за какие-то персональные заслуги – нет.
С какими чувствами Вы ехали на фронт?
Воевать насколько сможешь, насколько сумеешь.
Как влияли на настроение людей в батарее победы и поражения? 43 год на Волховском фронте не больно удачный был.
Да, неудачный. Народ, видите, разный. Полк был сформирован из уроженцев Ивановской области, но в процессе боев он пополнялся различными людьми. У меня во взводе были грузин, еврей, цыган, татарин, украинцев побольше было, остальные русские. Но никакой разницы между ними, естественно, не было, все равны. Ни о каких конфликтах на национальной почве не может быть и речи.
Когда стали освобождать западные районы, то в соседних батареях были солдаты, у которых семьи под оккупацией. Тогда было принято по радио объявлять: солдат такой-то ищет своих родственников, живущих там-то и там-то, просит отозваться. Однажды я получаю письмо довольно интересное: «Синеглазому». Никаких… глазовых больше в полку не было – принесли мне [смеется. – А. Б.]. Пишет одна грузинка из Средней Азии, что она такая-то, слышала по радио номер вашей полевой почты, вы разыскиваете, я хотела бы дружить с синеглазым. Я, конечно, не стал писать, отдал солдатам. Что получилось у них, не знаю. Однажды мы писали, когда тоже стояли в обороне. Редко это было, кинокартину смотрели в шапито, тогда такие были залы. Не помню сейчас, то ли «Небесный тихоход», то ли еще что-то, в общем, там играли Жаров и Целиковская. Приходит парторг: «Давай напишем письмо Целиковской». «Давай напишем» [смеется. – А. Б.]. Он написал, мы оба с ним подписались, что вот мы такие-сякие, гвардейцы, громим врага, посмотрели картину, очень воодушевлены, и в дальнейшем будем беспощадно уничтожать фашистов. Ответила не она, а Жаров: Людмила сейчас находится в командировке, Вам пишет Жаров.
А госпиталь есть госпиталь, лечение я закончил в Свердловске. В ленинградском госпитале я был неходячий. Лежал на боку сколько-то, не вставал. Перед тем как немножко оклемался, стал до туалета на костылях ходить, тогда перевели в Свердловск. Ранена в основном правый бок, нога, 5 главных осколков. Местность в Выборге каменистая – были каменистые осколки по телу. Гипс накладывали, его снял уже в Свердловске. Там без гипса месяца два был, лежал в здании, в котором еще после этого был в Свердловске. Там размещалась какая-то часть штаба Уральского округа. С товарищем шли, я говорю: «Ты меня сфотографируй. Здание я хорошо вижу, я в нем в госпитале лежал». Он только нацелился фотографировать, ему раз, закрывают [объектив – А. Б.]. Из здания выходит подполковник: «Кто такие? Пошли». Доказали, кто мы такие.
Свердловск мне еще запомнился тем, что когда в майские дни 61 года Пауэрса сбили, я видел разрыв одной ракеты. А второй-то я не видел. Я в партшколе учился, утром пришел, а там каких только разговоров не существовало. Потом Хрущев обнародовал, что такое событие было.
Какие чувства Вы испытывали в боевой обстановке – страх, возбуждение?
Как сказать? Вот страх. Под Добрым мы с командиром соседнего взвода периодически дежурили в блиндажах вместе с пехотой, наблюдательный пункт там был. Туда идешь, туды-сюды, что, будет обстрел, не будет. Обратно идешь – вроде пронесло. Там же я попал в неприятную историю. В пехотном блиндаже через амбразуру мне захотелось посмотреть передний край немцев в стереотрубу. Амбразура была малюсенькая, мало увидишь. Я вышел, рядом смотрю, пень стоит. Думаю, дайка в этот пень я стереотрубу ввинчу. Ввинтил, стал наблюдать, в-ж-жик! Снайпер. Все, больше не показывался.
На своих позициях страха не испытывали?
Как не испытывал? Мы стреляем, по нам стреляют, 150 снарядов по нашим позициям выпустили. Выстрел, слышно свистит, снаряд летит – съеживаешься, уж невольно съеживаешься. Когда нас не обстреливали, то ощущение нормальное. В итоге более 600 дней и ночей провел с орудиями в боевых порядках, зимой, летом, осенью, весной.
Какая минута или день на войне для Вас были самыми трудными или опасными?
Кто его знает? Это трудно, это не трудно. Как его выделишь?
Что Вас больше всего поразило на войне?
Спаянность солдат, офицеров. Там сразу видно, кто какой есть. Если есть какие-то трудности, все участвуют в их преодолении, никто не отлынивает.
Вы участвовали в чистке орудий после стрельб вместе с солдатами?
Нет, за этим следили командиры орудий. Этим занимались снарядные, зарядные и наводчики тоже, подносчики участвовали. Такое орудие прочистить – надо физическую силу. Трудно было при строительстве блиндажей – надо было порядком земли перелопатить, оградить орудия, на блиндажи накат. Лес шел на три наката обычно.
Как можете определить Ваше отношение к врагу?
Враг есть враг. Через нас практически не проходили пленные, но один раз привели ко мне немца при наступлении. То ли он обязан был там находиться и вести стрельбу, то ли он решил остаться и сдаться в плен. Он был лет под 40–45, мы по-немецки не ахти как, он единственно твердит: «Arbeit, arbeit». Вид его показался нам неприятным, отправили в штаб полка. А уж куда там его дальше?
Кто из противников Вам был более неприятен – немцы или финны?
Немцы, наверное, больше, а финны… Когда мы Выборг взяли, дошли до Сайменского[?] канала, дальше наша армия не пошла, остановилась. Финны с передовой кричали: «Рус, не стреляй! Наши в Москву полетели»! Я видел самолет, летевший с финской стороны и финские истребители, которые его сопровождали. При перелете линии фронта их наши истребители встречали. Видимо, делегация летела договариваться о перемирии.
Что Вы думаете о наших солдатах, попавших в плен?
В тот период отношение было такое, это сейчас мы оцениваем более здраво. Тогда сдался в плен – предал, а в какой обстановке, это сложно было определить. Большинство попадали независимо от их желания, состояния. Окружили, обезоружили – куда деваться? Некоторые еще питали какую-то надежду, что они могут потом вернуться в армию.
К власовцам у Вас какое отношение?
Непосредственно к Власову как можно относиться? Оказался трусом, в конечном итоге предателем. Какой он может быть патриот, он просто испугался. Остальные власовцы из числа пленных. Кто-то надеялся, что он сумеет через армию вернуться, а которые искренне желали поражения России, таких, я считаю, там немного было. У нас их не было. Отношение тогда было единственное – сдался в плен – враг.
Что может сказать об отношениях с местным населением?
Редко ведь мы с населением встречались, мы в лесах да болотах. Где-то по пути они попадались, а что сказать. Наше население, советское. В Ленинградском драмтеатре когда были как сказать? Восторженно-жалостливое, что ли? Такое они пережили в блокаду Ленинграда, там остались. После Новгорода продвигались к Оредежи, километров 30 не было целых деревень и гражданского населения, мне запомнилось. И в одной деревне попались местные жители. Тетка одна выходит, паренек. Впечатление такое, что он только вышел из леса, был там вместе с партизанами. Конечно, смотрела на нас восторженно, что мы их освободили. Сказала: «Ой, какой молоденький лейтенантик»! Остальные-то солдаты были пожилые. А больше с мирным населением не приходилось общаться; огневые позиции рядом с деревнями не разместишь.
Чем для Вас были пушки?
Бережное отношение.
Как можете описать отношение к Вам артиллеристов других калибров и пехоты?
Мы с другими системами практически не контактировали. А пехотинцы? Каждый на своем посту, артиллерия в том числе. Когда стояли под Карбуселью, солдаты общались между собой, ко мне однажды привели однофамильца, тоже из Кировской области. Они привели, потому что знали, у меня отец был на фронте. Да, однофамилец, из Советского района. Близкого родства не обнаружилось.
Какие времена года для Вас были тяжелее?
Наверное осень – сыро, слякоть. Для передвижения, оборудования, устройства огневых позиций сложнее. Физически посложнее.
Как в полку относились к женщинам?
В середине 43 года около 30 женщин поступили в полк на должности телеграфистов. К нам в батарею одна девушка телефонистом, в соседней батарее две девушки, в штабе дивизиона одна, в 9-й батарее тоже. Относились солдаты внимательно, для них вроде как дочь, потому что они старше были. Никто не обижал, никаких поползновений не обнаруживал. Девушка, которая у нас была. Командир батареи есть командир, он был парень взрослый, приличный. У них, вроде, взаимное доверие обнаружилось. Я уже в госпитале был, мне сообщили, что она уехала в декрет.
За что Вы в той войне воевали?
За страну. У нас не было, что за Россию. Но лозунг тогда был среди солдат: «За Родину, за Сталина». Это не пустой звук, под Сталиным имелось в виду не столько его личность, а руководитель государства, правительства, высшая власть, которая организует борьбу.
Ваше отношение к Советской власти за время пребывания на фронте никак не изменилось?
Нет. То, что вернулись, трудности большие были, но все понимали, чем они вызваны: война, разруха, большие издержки. Дружно жили.
Как у вас в дивизионе относились к политработникам?
Нормально. Замполит с батареи ушел, остался вроде неосвобожденный, старшина. В члены партии я вступил в августе 43, кандидатом в апреле 43 – укороченный срок, никто меня силком не толкал. Просто было – коммунисты, комсомольцы впереди.
Почему мы победили в той войне?
Слитность народа, налаженное руководство страной в лице Государственного Комитета Обороны, ЦК партии и Совнаркома. Дрязг не было, они, конечно, жестко пресекались, но их не было.
Мучили Вас после войны фронтовые воспоминания, сны?
Сказать, что мучили, не мучили. Так, вспоминаешь – вспоминается.
Спустя 60 лет как можете определить отношение к той войне?
Справедливая война. Трудно представить себе, что бы случилось, если бы фашизм победил. Другого выбора не было. Народ всякий и сейчас есть: стремятся как-то охаять, где-то подковырнуть – я считаю, это непорядочно.
Расшифровка записи: Александр Бровцин
Подготовка к публикации: Александр Бровцин
Березовский Ефим Матвеевич

Я родился в 1913 году в Одесской области, село Соврань. Я из очень бедной семьи: мать умерла, когда мне было 5 лет, а отец стал инвалидом, – у него было что-то с позвоночником. Я ни одного дня в школу не ходил, а с 9 лет начал работать. А потом было такое тяжелое положение, что мы еще с одним парнем пустились беспризорничать и доехали до Донбасса, до города Константиновка. Там нас устроили на завод, и с 12 лет я работал уже на заводе: это был Константиновский бутылочный завод. Там меня начали обучать грамоте по программе «Ликбез». А потом таким подросткам как я запретили работать на заводе, – там ведь температура 70 градусов! Потом я окончил фабрично-заводское училище (ФЗУ), и до армии работал на заводе шлифовщиком. Оттуда я ушел в армию, и с 1935 по 1937 годы служил в 80-м артиллерийском полку в Донбассе. Это была престижная дивизия, – Пролетарская Донбасса. Я окончил полковую школу и имел звание младший командир, по-нынешнему – старший сержант.