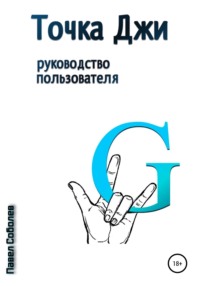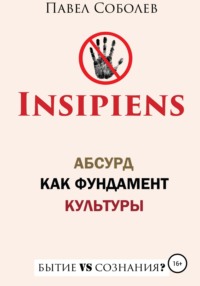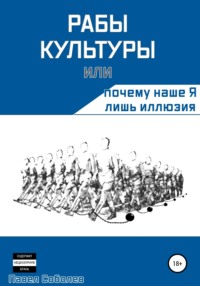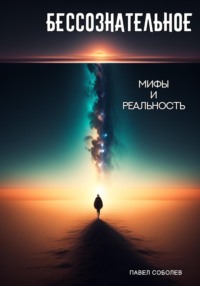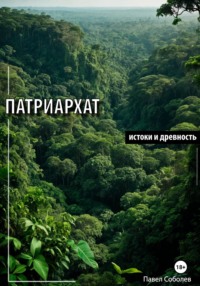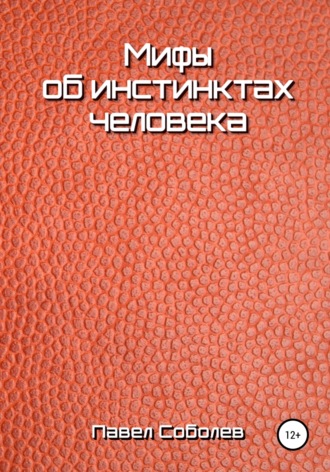 полная версия
полная версияМифы об инстинктах человека
Древние люди, даже если и не обладали членораздельной речью (хотя, судя по всему, они ею всё-таки обладали и, возможно, уже даже около 700 тысяч лет назад в лице Homo heidelbergensis), то, тем не менее, без особого труда обходились экспрессивной жестикуляцией и эмоциональными вокализациями, часть которых уже должна была носить предметное значение, поскольку у Homo erectus в мозге обнаружен зачаток речевой зоны.
Ещё маститый биолог И. И. Мечников отмечал, что все животные строго инстинктивным путём умеют отличить съедобную пищу от несъедобной, ядовитой. Мечников указывает, что каждый животный вид имеет подобный врождённый навык, указывает, "как трудно уничтожить крыс отравленной пищей", ибо "инстинкт тотчас выдаёт им опасность предлагаемого вещества" (цит. по Вагнер, 2005b, с. 324). Но у человека такой способности нет. Человек съедает всё, что ему дано. У него совершенно нет никаких врождённых генных механизмов для определения съедобности той или иной пищи.
Всё это Мечников подметил совершенно верно. Другое дело, что в итоге он приходил к абсолютно неправильному выводу из этой посылки, сокрушаясь по поводу того, как же много потерял человек, утратив подобные инстинкты… Вагнер логично критикует позицию Мечникова, говоря, что "нарушилась прежняя форма равновесия между инстинктивной и разумной деятельностью и нарушилась не в дурную, а в хорошую, полезную для человека сторону (выделено Вагнером – С.П.). "Прежде вопросы о вреде или полезности пищи решались инстинктами, теперь они решаются при посредстве разумных способностей, при содействии воспитания, и потому, конечно, решаются таким способом, что он выгоднее, полезнее для тех, кто может им пользоваться", заключает Вагнер.
Так если, как думают некоторые эволюционные психологи, человек должен иметь некие собирательские "инстинкты", поскольку его предки были собирателями, почему же у него тогда совершенно не сохранилось этих "инстинктивных" механизмов для различения, скажем, съедобной ягоды от ядовитой? Почему у человека нет никакого врождённого опасения "волчьей ягоды", "вороньего глаза", паслёна горько-сладкого или белладонны? Почему каждому ребёнку, входящему в лес по грибы, по ягоды, взрослые должны пояснять, какую ягоду можно рвать, а какую нет?
Что ещё немаловажно отметить, сам Мечников обращал внимание, что уже и обезьяны плохо умеют по запаху определить ядовитую пищу, и ему известны случаи, когда они травились такими ядами, которые имели довольно резкий запах. Всё это в очередной и несомненный раз указывает на то, что всякая инстинктивная деятельность постепенно утрачивается вверх по эволюционной лестнице животного мира.
Эволюционисты утверждают, что у современного человека в наследство от древнего предка сохранились некие мифические "остатки" инстинктов – включая охотничий инстинкт. На вопрос, почему же эти жизненно важные "инстинкты" у человеческого вида со временем редуцировались, стали ослабевать, эволюционисты отвечают, что это связано с постепенным переходом человечества к земледелию, агрокультуре и одомашниванию животных (доместикация).
Звучит как нечто похожее на логику, но на деле это, конечно, не так. Ведь если мы возьмём те популяции людей, которые никогда не прекращали жить охотой и собирательством (к примеру, многие африканские племена, южноамериканские индейцы, австралийские аборигены и представители многих других коренных народов планеты), но продолжали это делать на протяжении всех 100 тысяч лет, то мы поймём, что и у них нет никаких особых охотничьих или собирательских "инстинктов". А ведь по логике эволюционистов, у этих племён их "охотничьи инстинкты" должны наблюдаться не просто в "остаточном" виде, а в самом ярком, непосредственном биологическом виде, поскольку охота и собирательство этими племенами не прекращались и не заменялись земледелием или одомашниванием животных. Но нет у представителей этих племён каких-либо врождённых особенностей поведения, которые бы отличали их от всех прочих популяций планеты. А что у них есть? А есть лишь тотальное обучение старшими младших всем охотничьим навыкам – владению копьём или бумерангом, их изготовлению, освоение всех особенностей поведения дичи и хищников для осуществления успешной охоты. В общем, всё то, что, согласно взглядам эволюционистов, должно быть у африканских, австралийских и амазонских детей изначально врождённым, детерминированным генами, на деле же представляет собой исключительно царство научения. Значит, "инстинкты" у современного человека редуцированы не по причине того, что однажды (около 15-10 тысяч лет назад) он вдруг занялся земледелием. Совсем не поэтому. Но почему же тогда? А потому что у Человека никаких инстинктов никогда и не было, как не было их уже и у древних обезьян, спустившихся с деревьев в саванны 5-6 млн. лет назад. И в дальнейшем у них не могло происходить формирования вообще никаких инстинктов. Так как научение через подражание и наблюдение делает механизм генетического наследования поведения излишним, это приводит к его отмиранию. Но у древних приматов научение через подражание и через наблюдение уже было превосходно развито, то это значит, что в дальнейшем на пути их преобразования сначала в австралопитеков, затем в Homo erectus, а затем в неандертальца и в современного Homo sapiens не происходило генетической фиксации никакого нового поведения. Никаких инстинктов не формировалось. И если сейчас принято отсчитывать род Homo от первых Homo habilis, то мы можем сказать, что Человек не только никогда не избавлялся от инстинктов, но у него их попросту никогда и не было. Именно поэтому даже у ныне действующих племён с традиционным укладом жизни охотников-собирателей какие бы то ни было охотничьи и собирательские "инстинкты" отсутствуют, потому что их никогда и не было.
Они не редуцировали, они не притупились.
Их просто не было.
Никогда.
Этот аспект можно было бы даже ввести как дополнительный параметр для таксономической классификации рода Homo – отсутствие каких-либо врождённых видотипичных образцов поведения. Хотя, как неоднократно высказывалось выше, данная характеристика, возможно, может быть применима даже к семейству гоминид в целом или даже к надсемейству гоминоидов (все человекообразные обезьяны с человеком и его предками включительно).
Вынесенное в эпиграф к этой главе изречение А.Н. Леонтьева кратко характеризует всё положение вещей. Я повторю его здесь ещё раз: "окружающий нас мир меняется так стремительно, что лучшее приспособление к нему – не иметь к нему фиксированного приспособления. Вам понятен парадокс? Ведь природа работала бы против человека, если бы эти новые изменения и приспособления к ним записывались в его глубинном аппарате и передавались в порядке биологического наследования". Логика тут проста и очевидна.
В некоторых случаях эволюционисты склоняются к заявлениям, из которых следует, что разум не может компенсировать все инстинктивные моменты поведения, дескать, инстинкт направляет поведение в русло конкретных влечений, которые врождённы, и, дескать, сами эти влечения и существуют как свидетельство наличия некоего инстинкта (если понимать инстинкт в очень и очень широком смысле – как врождённое влечение к чему-либо). Но подобные утверждения, конечно, ничем не аргументируются, а вдобавок и откровенно близоруки.
Так называемые "влечения" в жизни человека сплошь и рядом зарождаются как раз посредством механизма подражания. Эволюционисты могут и сами назвать тому примеры, было бы желание. Явление, получившее краткое название "мода", каждый раз и на тысячах примеров демонстрирует нам, как подражание приводит к возникновению у множества людей потребности иметь строго конкретную вещь, носить строго конкретную вещь, вести себя строго конкретным образом. Суть всякой моды (массового акта подражания) описывается людьми и ощущается ими через термины, аналогичные влечению – "хочу", "люблю" или "надо". Именно неосознаваемые акты подражания (как автономная ориентировка в наличной ситуации посредством копирования поведения других представителей популяции) является очень ощутимым и даже основным источником всяческих влечений человека, которые эволюционистами обычно преподносятся под соусом неких "инстинктивных влечений". Всяческие "влечения" как субъективно переживаемая тяга субъекта к чему-либо совершенно не должна нуждаться в какой бы то ни было инстинктивной подоплёке. Для эволюционистов же это одна из излюбленных тем для спекуляции – чувственное влечение, эмоциональное, оно или как бы противопоставляется рациональному, а потому и объявляется врождённым, инстинктивным. Они даже не понимают, до какой степени у человека рациональное в его природе влияет на эмоциональное, конструирует его.
Идея о существовании у древнего человека неких охотничьих или собирательских инстинктов, которые по непонятной причине стали иссякать, но до конца не иссякли и якобы всё ещё дают о себе знать в поведении современного человека – это выдумка эволюционных психологов, вытекающая из их же элементарного невежества. Уже у обезьян чётко выражено наличие определённой поведенческой культуры: вся система установок, которые особи перенимают через подражание с первых же дней своей жизни, составляет их культуру – в неё входят и копируемые образцы действий, и природные объекты, на которые направляется поведение, включая и все нюансы в их использовании. В процессе усложнения общества и общественных отношений формируются и такие сложные поведенческие установки, которые регулируют межличностные взаимодействия – так возникают культурные ценности. Каждая человеческая особь с первых дней жизни погружается в специфические для её общества культурные ценности и постепенно учится ориентироваться сначала в них, а затем – ориентироваться с помощью них. Культура и её ценности, демонстрируемые особями и осуществляемые ими в межличностном взаимодействии затем переходят из внешней общественной среды во внутренний мир ребёнка, наблюдающего все эти процессы. Таким образом, культура как бы оказывается пересаженной в голову ребёнка, и в дальнейшем он уже сам оценивает всё происходящее вокруг с позиций этих самых "пересаженных" в него культурных ценностей – так формируется индивидуальная мораль, которая изначально сугубо общественна по своей природе, поскольку возникает из суммы межличностных взаимодействий. Данное преобразование (из внешнего во внутреннее, из культурного в психологическое) становится возможным благодаря процессу интериоризации.
Гораздо подробнее процесс перехода культурных установок в психику индивида описан в моей книге " Миф моногамии, семьи и мужчины: Как рождалось мужское господство " (2020). Там показано, как человек неосознанно, с ориентировкой на Других, формирует собственное поведение и ценности, которыми будет руководствоваться всю оставшуюся жизнь.
Для разъяснения и ускорения усвоения некоторых культурных ценностей на ранней стадии развития ребёнка применяется система поощрения-наказания. Мало кто из эволюционистов задумывался хоть раз над тем, почему и зачем в человеческом обществе существуют всяческие общественные институты, предписывающие довольно жёсткие образцы поведения в тех или иных условиях, осуждающие за их игнорирование. Зачем всё это делается, если, как мыслят эволюционные психологи, общественные отношения регулируются врождёнными свойствами психики человека? Зачем, если мы полагаем, что альтруизм регулируется генами, львиная часть времени воспитания детей – это объяснение им и демонстрация (самое главное!) на примере, что такое хорошо, что такое плохо? Как можно поступать с товарищами, а как нельзя…
Уже упоминавшийся эволюционист Дольник (всю жизнь изучавший птиц) отвечает на это: у людей инстинкты хоть и есть, но они сильно ослабли. Именно поэтому людское общество и нуждается в таком направляющем механизме, как культура и её система ценностей.
Но в силу того, что орнитолог Дольник – примитивист, его концепции сплошь и рядом красуются логическими дырами. Дольнику достаточно задать всего один вопрос, чтобы оголить несуразность всей его книги "Непослушное дитя биосферы", к большому сожалению, пользующуюся огромным интересом незамысловатого читателя, которому проще всё объяснять царствием генов. И вопрос этот: почему "инстинкты" человека вдруг стали ослабевать? Почему? Дольник нам на этот вопрос не ответит. Хотя ответ-то, конечно, очевиден – тот или иной инстинкт у вида ослабевает тогда, когда он становится не нужен. Тогда ему на смену за сотни тысяч лет либо возникает новый инстинкт (под стать новым условиям среды), либо же, как в случае с высшими обезьянами, инстинкт исчезает по причине развития более удобного альтернативного механизма формирования адаптивного поведения – через научение, через культурную преемственность. То есть инстинкт в любом случае исчезает, ослабевает лишь тогда, когда он становится ненужным. Это всё точно так, как и в морфологической эволюции – орган атрофируется и вовсе исчезает, когда в нём отпадает нужда. Дольник говорит, что культура дополняет инстинкты, которые ослабевают. Утверждать так, всё равно, что утверждать, будто острый камень дополнял когти и клыки древних приматов. Но он не дополнял их, а полностью взял их функцию на себя. Камень вытеснил когти и клыки, а не "дополнил" их. Они стали ненужными. Так и с инстинктами – они начали ослабевать по той причине, что стали ненужными. А ненужными они стали, когда у древних приматов появился альтернативный механизм формирования адаптивного поведения – культура и культурная преемственность. И этот альтернативный механизм был призван не "дополнять" инстинкты, а полностью нивелировать их, взяв их функцию на себя. Таким образом, инстинкты стали излишними, потому и сошли на нет.
Культура – это вовсе не дополнение к инстинкту, направляющее его в русло, о котором последний стал "забывать". Культура – это единственный фактор, "от" и "до" созидающий поведение человека. Культура решает, что будет любить человек, а что – ненавидеть. Она расписывает мельчайшие детали его психических функций и месит их, как могучий гончар податливую глину.
Хорошо об этом сказал замечательный польский философ-фантаст Станислав Лем, человек невероятной эрудиции и мышления, обогнавшего своё время на десятилетия.
"Человек – не животное, которому в голову пришла мысль о культуризации. Он – не битва импульсивного "старого мозга" с молодой корой серого вещества […]. И он не "голая обезьяна" с большим мозгом (Десмонд Моррис), поскольку он – не животное с добавлением чего-то. Совсем наоборот. Как животное человек несовершенен. Сущность человека – культура ; не потому что так нравится прекраснодушным идеалистам. Сказанное означает, что в результате антропогенеза человек лишился наследуемых, эволюционно "сверху" заданных норм поведения, животные обладают рефлексами, удерживающими в повиновении внутривидовую агрессивность, а также автоматически тормозящими рождаемость при угрозе популяционного взрыва. Перелетами птиц или саранчи руководят гормонально-наследственные механизмы. Муравейник, улей, коралловый риф – это агрегаты, приспособившиеся за миллионолетия к автоматическому равновесию. Социализация животных также подчиняется наследственному управлению. Так вот – автоматизмов такого рода человек попросту лишен. А поскольку эволюционный процесс лишил его тех внутренних механизмов, действиям которых подчиняются животные, постольку человек был принужден создавать своей биологией – культуру.
Человек – животное несовершенное, это означает, что он не может возвратиться к животному состоянию. Именно поэтому дети, выросшие вне человеческого окружения, оказываются глубоко ущербными в биологическом отношении: у них не вырабатывается ни присущая виду норма разумности, ни речь, ни высшая эмоциональность. Они – калеки, а не животные […]. Короче говоря, в биологии человека нет данных, позволяющих однозначно вывести его обязанности. Не понимая этого и действуя стихийно, общества создали институты культуры, которые отнюдь не являются продолжением биологических свойств человека, хотя и служат им рамкой, опорой, а то и прокрустовым ложем […]. Человек сотворил институт, то есть проявляющиеся вовне структуры ценностей и целей, которые выходят за пределы индивидуума и поколения […]. Каждая культура формирует и дополняет человека, но не в соответствии с фактическим состоянием, ибо она не признается в собственных изобретениях, решениях и перечне той их произвольности, которую обнаруживает лишь антропология, когда изучает весь комплекс культур, возникших в истории. Каждая культура настаивает на своей исключительности и необходимости и именно так создает свой идеал человека […]. Но, переместившись в установленном культурой направлении, человек оттуда видит себя почти с религиозной точки зрения и с перспективы обычаев и норм, то есть не как некую материальную систему и не как недопрограммированный гомеостат, но как существо, подчиненное аксиологическим градиентам. Он сам придумал для себя эти градиенты. Потому что какие-то изобрести должен был, а теперь они его формируют уже в соответствии с логикой, присущей их структуре, а не структуре склонностей и пристрастий" (Лем, 2003).
Наверное, на этом можно уже и остановиться в деле общелогических обоснований невозможности наличия у человека каких-либо инстинктов. Главное – это понять, что у рода Homo инстинкты не столько ослабевали, сколько вообще никогда не имелись. Мы можем сказать, что инстинкты могли быть у древних приматов где-нибудь в миоцене (более 10 млн. лет назад), но когда возникла линия высших обезьян, инстинкты уже стали сходить на нет по причине развития интеллекта и подражательной способности: с этих пор особенности поведения можно было не наследовать биологическим путём, но приобретать их со всеми вариациями в ходе раннего онтогенеза. Эта способность оказалась перспективнее инстинктов. Никаких инстинктов у рода Homo никогда не было. И точка.
Сейчас же давайте перейдём к демифологизации "инстинктов" человека на примере некоторых довольно распространённых и конкретных мифов, основная масса которых на удивление живуча.
6. Конкретные мифы об инстинктах человека
В качестве основных источников некоторых заблуждений на тему "инстинктов у человека" будем пользоваться работой В. Дольника "Непослушное дитя биосферы", поскольку это колоссальный кладезь мифов такого рода, а также очень популярной в наши дни работой супругов Палмер "Эволюционная психология: секреты поведения Homo sapiens", и некоторые мифы возьмём из повседневных разговоров типичного обывателя на скамейке у подъезда, не являющегося специалистом ни в психологии, ни в этологии или даже в биологии, но, как говорил Зощенко, "не без образования"…
Итак, приступим.
6.1 Миф первый: овуляция и поведение
В литературе по эволюционной психологии бытует мнение, будто использование женщинами косметики имеет врождённый характер и базируется главным образом на эволюционной необходимости демонстрировать мужскому полу свою фертильность (половозрелость). В животном царстве половая готовность самки к оплодотворению носит сезонный характер и регулируется гормональными изменениями в организме. Что особенно важно, в период овуляции и готовности к оплодотворению внешний облик самок многих видов претерпевает некоторые изменения. У самок некоторых приматов в этом случае происходит набухание наружных половых органов, и от усиленного притока крови возникает их покраснение. У большинства животных готовность самки к оплодотворению случается один-два раза в год. И именно в эти периоды самка подпускает к себе самцов и позволяет им производить спаривание. Считается, что когда-то в древности человеческие женщины (почему-то) утратили способность демонстрировать собственную овуляцию. Но это не прошло бесследно. Якобы потребность её демонстрировать у женщины всё равно осталась. Так и появилась косметика: накрасила лицо чем-то ярким, вот тебе и импровизированный сигнал об овуляции. Особенно эволюционисты любят в этом ключе заострять внимание на губной помаде – даже утверждается, будто это самая прямая имитация покраснения и набухания половых губ (которая больше не происходит).
В действительности, хоть многие десятилетия и считалось, что спаривание, как и у всех прочих животных, у обезьян приурочено к овуляции, более поздние наблюдения показали, что это не так, и сексуальное поведение обезьян куда свободнее от диктата биологической целесообразности. Даже лактирующие (кормящие) самки обезьян способны спариваться (Файнберг, Бутовская, с. 115), что просто немыслимо для всех других животных. Зоолог и антрополог Роберт Мартин пишет об этом: "Совокупление на протяжении значительной части цикла широко распространено среди обезьян и почти уникально для обезьян и человека. Этот факт известен уже давно. При этом у людей эта способность выражена в максимальной степени: они могут заниматься сексом на протяжении всего менструального цикла. Но продлённый период спаривания в течение каждого цикла был, по-видимому, свойствен ещё общему предку всех обезьян и человека, жившему более 40 млн лет назад" (Мартин, 2016).
Вероятно, концепция спаривания обезьян преимущественно в овуляцию была обусловлена некорректной трактовкой набуханий половой кожи у некоторых видов: долгое время считалось, что покрасневшие и набухшие до невероятных размеров половые губы самки сигнализируют о наступлении овуляции. Но позже выяснилось, что всё сложнее, и набухания половой кожи могут не спадать даже неделями (Гудолл, 1992, с. 498; Смолл, 2015, с. 43), что совершенно немыслимо, если бы речь шла именно об овуляторной сигнализации, ведь овуляция длится лишь 1-5 дней.
У ближайших к человеку шимпанзе бонобо набухания половой кожи лишь в 50% случаев совпадают с овуляцией (Douglas et al., 2016). И если обычно принято говорить, что у женщины овуляция скрыта, то у бонобо она также оказывается скрытой наполовину. Иначе говоря, то, что принято называть овуляторными признаками, в действительности может таковым совсем и не быть. Даже у беременных самок случаются набухания половой кожи и держатся неделями, хотя никакая овуляция в это время уже невозможна (Гудолл, 1992, с. 498; Кузнецова, Сыренский, Гусакова, 2006, с. 25). Поэтому приматологи замечают: загадка не в том, почему у некоторых обезьян, включая человека, овуляторные признаки исчезли, а скорее, в том, как и зачем они появились (Смолл, 2015, с. 55), ведь многие обезьяны прекрасно спариваются и без этих самых признаков. У широконосых обезьян Нового света (Центральная и Южная Америка) набуханий половой кожи нет совсем (с. 54).
К тому же расчёты некоторых исследователей допускают, что овуляторные признаки развились у шимпанзе уже после того, как их эволюционная линия разошлась с предками человека 7-5 млн. лет назад (Pagel, Meade, 2006). Если это так, то овуляция у предков человека попросту всегда была скрытой.
Вероятно, по этой же ошибке в мире очень популярен взгляд, будто сексуальное желание женщины возрастает именно в овуляцию – особенно любят этот тезис приверженцы эволюционной психологии. Но, как показывают исследования, вероятность секса в овуляцию никак не возрастает (Brewis & Meyer, 2005), а генитальная возбудимость женщин либо никак принципиально не отличается в разные фазы цикла (Slob et al., 1991), либо даже достигает пика как раз вне фазы овуляции (Schreiner-Engel et al., 1981; Кон, 2004, с. 146). Некоторые исследователи прямо заявляют: "Часть женщин испытывает предсказуемый пик сексуального интереса близко к овуляции, однако эти женщины составляют меньшинство" (Bancroft, 2002, p. 18).
К тому же возникает другой вопрос: зачем самке демонстрировать момент собственной овуляции, если, как показывают данные приматологии, у всех видов обезьян в 80% случаев именно самки выступают инициаторами спаривания? Да, вопреки сложившемуся стереотипу, у обезьян половые тираны – именно самки.
Подробнее об этом смотрите в моей книге " Миф моногамии, семьи и мужчины ", где отдельная и большая глава посвящена демонстрации того, что женское сексуальное желание у всех приматов (включая человека) может превосходить мужское.
Итак, среди млекопитающих у обезьян (и у высших обезьян в особенности) зависимость полового поведения от овуляторных признаков исчезает. Наиболее близкие нам по уровню развития карликовые шимпанзе бонобо уже напрочь игнорируют внешние сигналы организмов самок об овуляции – они совокупляются всегда. Таким образом, можно понять, что у человекообразных обезьян как животного надсемейства уже отпадает надобность в овуляторной сигнализации, и она, хоть и продолжает ещё сохраняться, но уже эпифеноменальна по своей сути, то есть сколь-нибудь значимой роли уже не играет. У высших обезьян овуляторная сигнализация не выполняет роли релизеров, ключевых стимулов для активации инстинктивного поведения (поскольку у высших обезьян уже нет и инстинктов, а только научение).