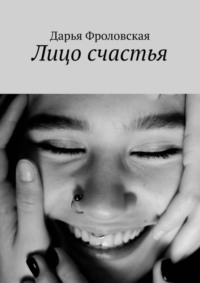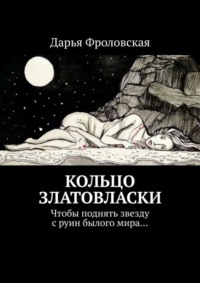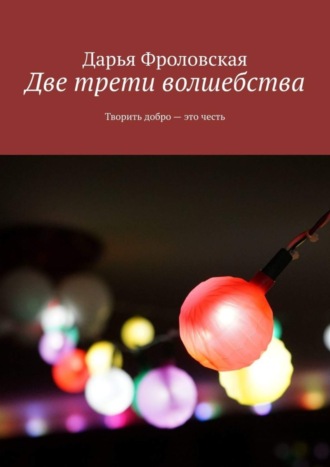
Полная версия
Две трети волшебства. Творить добро – это честь
– но это твой мир, и нечего бояться.
Попробуй еще раз, попробуй же сейчас,
Попробуй снова!
Попробуй еще раз – как только захочешь.
Ведь это твой мир.
И все, что тебя расстроит – это часть
Твоего мира, это то, что ты и устроил —
Чтобы себя чтобы оправдать свои желания
Чтобы мечты свои осуществить, да!
И не пытайся отбросить это – не выйдет.
Ведь это твой мир.
Это твоя Золотая пора.
На одном из званых вечеров – которые справедливо было бы заметить как нечто похожее скорее на сборища, сходки «о том, о другом» по-соседски и от невыносимого затишья, которым тогда томились милые люди, с некоторыми характерными для них, соответствующими их месту проживания странностями – разговор запетлял круче обычного.
Беседы велись странные, как и подобает населявшим самые окраины молодым людям, особенно под неумолимым влиянием тихого вечера, которому невозможно было противиться. Беседами они обходили темы самые острые и вопросы разворачивали самые неоднозначные, и ни на что не приводили единого, общего, убедительного ответа – они и не давали ответов. Их целью, смыслом этих бесед было разговориться, развязать друг другу языки – и только потом уж наслушаться всякого, чтобы преисполненными разными мыслями разойтись по своим комнатам, по этажам дома белокаменного, служившего обителью для совершенно непохожих друг на друга людей, объединенных одной лишь целью – остаться в этих стенах подольше.
И у каждого на этот дом были свои виды.
Старожилом для всех здесь была благовидная молодая еще дама, возраст которой можно было только прикинуть, попытаться вычислить, исходя из известных и достоверных фактов – о ней, об этом доме и о прежних его хозяевах и жильцах. Она страдала очень известной, далеко не редкой, но практически неизлечимой и странной болезнью – при несокрушимом желании жить и прожить жизнь интересную – что у нее, общем-то, было и получалось, как казалось со стороны – она постоянно, за редким исключением находилась в терзающих ее душу сомнениях и недоверием была полна к каждому своему слову и ощущениям своим; она совершенно не знала, как и чем жить. И неизменно сокрушалась над тем – но и продолжала свои поиски – что ей, видимо, не хватает волшебства, раз так, как есть, она себя чувствует и не может перестать думать об этом. Не может перестать загадывать и прекратить, наконец, ощущать острый недостаток чего-то еще – чего-то большего, чего-то более значимого и сокровенного ей не хватало.
На этот дом, на его прошлое и на всех его обитателей – на все, что было связано с ним – она очень рассчитывала. Сама же жила здесь на правах потомка давнего друга прежних хозяев, портрет которой занимает весьма удачное место слева на стене большого коридора, который, в свою очередь, заворачивает все левее и левее и выражаясь даже пристроем на заднем дворе – а меж тем, отведенное ему пространство ничем не было занято, и только являлось еще одной, практически пустой комнатой, в которой едва ли кто жил, но, по общепринятой версии, все же была занята однажды – двадцать четыре года назад, личностью известной таким образом, что и сейчас, в настоящее время, все те, кто проживал нынче в этих стенах, собрались по оставленную ей память о себе, о золотой поре этого дома и о неудаче, постигшей ее и прежних хозяев.
Каждый занимал здесь свое почетное место. Например, старший сын друга прежнего хозяина, уже за первые дни своего пребывания в этих стенах заполучивший себе славу не менее противного скептика, чем отец его, поселился чуть не в подвале, и практически безвылазно копошился в архивах – он изучал все, что только можно было изучить, что только было у него на руках. Ему было интересно все, вплоть до сметы покупок – пунктик прежней хозяйки. Он придирался ко всему – и даже если не к чему было придраться. возможных
Он не верил, что смета покупок – это смета покупок, он же подозревал в ней зашифрованный список гостей, имена и сам факт приезда которых хозяева дома хотели скрыть; он постоянно, неустанно стучал по стенке самой разной очередностью и силой удара, вплоть до того, что сам же и придумал некий шифр, о котором не распространялся, но и сам пока не знал, куда его пристроить, но точно знал, что для чего-нибудь он пригодится – просто ничуть не сомневался в этом.
Но, в то же время, не был уверен ни в чем, кроме того, что следует продолжать работать с архивом, искать что-то сокрытое и разгадывать загадки, которых, быть может, и не было вовсе. Он прекрасно, более чем превосходно овладел этой наукой – если прекратит свою деятельность, свою бурную деятельность, то немедленно покатиться к пропасти в неизбежное помрачение рассудка. Он не мог жить без загадок.
И в этом они были очень схожи с уже упомянутой выше поселенкой.
И в этом был заключен их секрет бессмертия. Секрет их бессмертия.
Они называли вещи своими именами, но только так, как считали нужным – то есть, ни за что бы не признали вещь просто вещью, если были уверены – да и только хотели того – получить от нее что-то большее, какую-то выгоду, не предписанную функционалом. Они сами определяли свои возможности и возможности использования любой ситуации, любого предмета и всякого разговора – они выворачивали каждое слово так, что превращали их в единую мелодичную историю на пользу себе, и представляли все в таком свете, так хорошо, что одно только «но» напоминало о том, что не с блистательным прагматизмом дело имеется – но было в том и наследие прежнего хозяина дома, прагматика совершенного, которого эти двое гостей застали еще – на все, на все они ратовали и вновь не находили себе места, и вновь, даже самая мелодичная история не приходилась по вкусу им, и вновь, и снова и снова все опять было «НЕ ТО».
Они оба очень рассчитывали на артефакты, что в стенах этого дома и ими сокрыты, а потому каждый день, проведенный здесь, они проживали все с большим волнением, все чаще хотелось сорваться обоим и окунуться с головой в мир погребенный прошлых тайн и секретов – но это был мир чужих тайн и секретов, а они гости, и гостями с каждым днем оставались, и даже если бы еще задержали хоть на пару лет – и тогда бы таковыми являлись; у этого дома в настоящее время была только одна хозяйка. Но ее здесь не было. Ее здесь не было уже восемь лет.
Вторая дочь прежних хозяев исчезла еще в пятьдесят третьем году, и с тех пор ни слуху, ни духу не было о ней. Но невозможно пропасть незаметно на этих землях – у самой границы, у самого подножия гор: множество патрулей, караулов, шныряющих повсюду гостей неприкаянных и сумасшедших – уж кто-то бы выдал. А раз не было и подтверждения тому, что девушки нет в живых больше – то и говорить о таком не приходилось, и хозяйкой дому белокаменному она считалась.
Но дом этот всегда был полон гостей, и за редким исключением очередной такой не оставлял надежд своих заметить что-то чуть более волшебное, едва-едва чудесное в стенах его; дом этот знал многих героев – почти всех, до единого героев этой земли, а потому привлекал к себе внимание и манил неизменно, с каждым годом, в любую пору еще гостей, других гостей; и каждый из них оставлял свои следы в стенах белокаменных, и каждый – за редким исключением – находил, что искал.
И дом этот и правда хранил множество артефактов, неисчерпаемое количество которых только и питало эти надежды – только надежды; когда же и вправду рука гостя касалась того, что искал он здесь – вот тогда надежды рассыпались прямо перед чертой исполнения желания заветного – не оправдывали себя артефакты, не казались тем, что жаждали увидеть искатели и охотники до них, не притворялись чем-то расчудесным и вовсе не напоминали палочку волшебную – и желания, как такое, не исполняли, и не исцеляли души обедневшие на веру и вдохновение – особенно; нет, артефакты – они просто были. БЫЛИ. И все.
Но сокрушался скептик вновь над этим обстоятельством – непоколебимым, очевидным, много, много раз на личном опыте узнанным и повторенном, и снова не верил, не мог поверить в то, что артефакт – это просто артефакт, которое название ничем не обязано представиться как следует по соответствию желанию его, его заветным представлением – о которых, верные своим чаяниям, надеждам без конца писали, завещали детям своим уже опробовавшие то гости стен этих белокаменных.
И вновь вещь не казалась вещью, и буквы – шифром. А дом любил своих гостей, а таких – коих большинство, за редким исключением – особенно.
Но этот дом не терпел конфликты между обитателями; как только семя раздора было пущено – так тотчас же, тут же прекращались все случайные отсветы на самые потаенные углы старого комода, блики на стене, которые ложились точно по направлению поисков – по направлению верного пути искателя артефактов, этими стенами сокрытых; уже покинувшими их гостями и хозяевами, оставившими тот путь, сокрытых.
И вновь у порога, затормозив лишь на миг и ухватившись рукой за дверной косяк, показалось – в один момент, в очередной раз – молодой еще даме, обладательнице прекрасных золотых локонов, убранных в горделивый пучок, и прямо под шляпку – что есть еще небольшая надежда на то, что все выйдет, как хочется, что все будет так, потому что так должно быть – и оправдаются, сбудутся все ее чаяния, и вздохнет она полной грудью, и заживет таким миром, который прольется дождем золотым вокруг нее, и тогда уже не покинет она этот дом с сожалением, и тогда уже не будет сомнений у нее, что это ее мир, и именно в таком мире она хочет жить.
Но как она в этом сомневалась!
Внешне она была неотразима, аккуратна и превосходно владела тем своим образом, к которому окружающий ее мир и все его представители питали больше симпатий – настолько хорошо владела им, что ей даже было в нем комфортно; настолько сжилась с ним, что уже не выходила из-под этой красивой картинки, а казалось, стала ей; не выходила из этого образа даже тогда, когда оставалась наедине с собой – а такое случалось очень часто – даже когда никто, никто и ничто не могло бы ее потревожить, когда ничто не обязывало за этот образ держаться.
…Она настолько сжилась с ним, что без него – чего эта молодая еще дама, обладательница прекрасных золотых локонов даже представлять не хотела, до того ужасным то ей казалось – она чувствовала себя беззащитной, выброшенной из колеи своей, как рыба на суше, как белое – точно по черному.
Но белое с черным владеют гармонией, а в этом же случае белое с черным разнилось, и почему, почему же казалось ей – одной из таких, подобных ей, которым подобна она – казалось, что иначе быть невозможно наравне, на одном уровне с миром своим чудесным, с миром своих чудес, который она насыщает каждым своим касанием мира, ее окружающего – чего она, к сожалению, не понимала, и лишь изредка догадывалась, но догадывалась не посредством неожиданно или сопоставлено с чем-то пришедшей мысли, а самим существом своим; пускай нелюбимого, пускай, не такого – он не может таким быть всегда – какой бы навсегда укрыл ее, укутал золотым покровом – пускай даже совсем не такого!
…Но это был ее мир. Ее мир, со всеми его несовпадениями и случайностями, со всеми его отличиями от желанного мира и со всем его многообразием форм и теорий развития самого существа, замкнутого в кольце бесконечного, неуловимого в том развитии движения этого кольца, из которого, точно по правилам, но всегда вопреки – всегда вопреки выбивался, вырывался, не находилось места ему – очередной герой; очередной такой единственный и неповторимый, первый и повторяющий саму поступь своих предшественников. Которому предстояло вновь наследить и оставить в память о себе, о той поре, когда наконец-то. Опять, снова и снова, на один миг этот мир, окружающий всех его обитателей, включая и героев, послушников – всех случайных наблюдателей его собственных форм и выражений тех самым чудес, которых они так жаждали и о которых в смятении и от невыносимой усталости – рано или поздно, своевременно ли, но каждого оно тяготило —думать не переставая уже не замечали, не узнавали – никак – озарялся, был укутан желанным золотым покровом, и лишь на миг этот мир в таком его проявление бессмертен был, бесконечен.
Но мир и так бесконечен. Для чего же нужны герои, эти великолепные персонажи, волшебные артефакты единственного, родного мира?
Кому нужны герои?
Кому нужны артефакты?
А в этом доме их было много. И многим они были нужны.
Так кто же те люди – молодая еще дама, обладательница прекрасных золотых локонов, аккуратно убранных под шляпку, и скептик, неудержимый скептик – кто же эти наследники прагматизма предыдущего хозяина этого дома?
Все они – все, кто был здесь, кто находится здесь, кто еще только оставил свой след в мечтах переступить порог белого дома – все они наблюдатели.
Все они, в общем-то, родные друг другу люди – изначально родные, по одному только факту своего, так сказать, существования – действительного существования; и всем им нужны артефакты, и у каждого из них свой герой – единый герой, их единственный. действительно
Но с родными людьми у них часто проблемы… Их недостаток. За редким исключением.
И каждый из них, в своем роде, уже только по этому – общий герой.
XX31 – 37гг. Свой герой. Свой самый близкий друг
Всем нам, каждому, нужен близкий друг.
Тогда все пойдет по-правильному.
Тогда все, что имеете вы, будет укладываться
В понятия вашего идеального, совершенного,
Оптимального, наконец, окружающими вас условиями,
Мира. Если нет такого друга – то вас все будет
Чего-то не хватать. Какая бы большая и светлая любовь
Не посетила вас, какие бы прекрасные люди вас не окружали,
Сколько бы у вас не было настоящих – действительных
Единомышленников – вам все равно будет не хватать
Его, такого друга. Вам без него не справиться с этим миром.
Никому без него не справиться с теми ловушками,
Что вам и же расставлены. И никем его не заменить.
Он просто должен быть.
Он должен быть у вас. У каждого.
У каждого должен быть такой друг.
Свой самый близкий друг.
И тогда – вы герой.
– Мы не герои. Так сказал мне человек, в которого я больше всего верил. И не обошелся этим. Ему было недостаточно. И она продолжила словами: героем мне не стать.
А я не верил ей. Не верил, но не мог ничего сказать в ответ. Не мог не слушать – я был очарован. Очарован ее словами, ходом ее мыслей – полетом, тем полетом мысли юной совсем девушки, которая совсем еще себя не оправдала – ни перед кем. Но уже была разочарована.
Была разочарована в себе и в своих силах, считала себя глупой, маленькой, смешной.
Была в глазах моих наивной, и я наивно думал, что эти ее мысли только вред собою принесут. А меж тем, при том, что она ведь действительно была тогда совсем еще маленькой и глупой, но мысли очень верные хранила глубоко внутри… И так надежно, что никакие самые гнусные сомнения и трусости порок не смог ее избавить от счастия владения ими, счастья их осознания.
Она говорила, что для нее каждый день – глава истории, и что каждый миг наполнен смыслом; что ей в мире неспроста. Но что в глазах других людей она подозревала себя сделанной из бумаги, и даже допускала, что из фанеры.
Но замечала, что, мол, чтобы быть не из фанеры, нужно хоть чуточку героем быть. Мол, для себя… Среди своих.
И, как говорила, среди множества, множества людей.
И что можем быть мы лишь чуточку героями. Что это, может, и залог счастливой жизни…
И жить хотя бы там, говорила, нужно, где любишь воздух; чтобы стоять на камне того берега, где все тебя объединяет с этим миром. Как говорила! Говорила, что со всеми, со множеством миров, со всем тем множеством миров, что непостижимы…
Говорила, что мы не герои. Что мы не должны гореть.
Но что мы можем, можем и обязаны отчасти – от имени времен был и на всех нас единых – сиять, сиять по мере, по мере нашей силы.
И не жалеть, и в пропасть не сводить себя, и не бросать лицом об землю; земля под ногами. И что бы не случилось, говорила, надо помнить – земля под ногами.
Говорила: «Так обопрись же на нее! Ведь когда-то здесь, на этом самом месте, один момент от жизни всей неодолимой стоял герой. В твоем лице герой».
У нее не было близкого друга. И в том была ее беда.
И я не мог ей в том помочь – я был не тем. Меж тем как для нас всех, для всех моих друзей и даже для всех тех, кого мы не знали вовсе – для всех она была тем человеком, тем единственным и незаменимым.
Но лишена была сама такой заботы. Такой опеки. Такого слушателя.
И без помощника такого – и без такой любви – была обречена сгореть намного раньше срока.
Гораздо раньше, чем шагнули вдаль ее герои.
Вперед, вперед она их провела – она их подвела к черте начала их большой дороги; их пути, их единого пути.
Но без нее черту переступили мы.
Без нашей волшебницы.
Часть вторая. Города больших дорог
Подчиняясь законам этого мира.
XX34 год. На самой границе
В этом месте человек может пострадать
Только от слишком неосторожных действий
Или по чистой случайности.
Это пропасти граница. Это магия.
Вот ты говоришь, что жизнь – это магия.
А в жизни и не такое бывает.
А наша граница в порядок этот абсурд
Приводит, милая девочка.
С тех самых пор, когда на границе появилась барышня маленького роста и от цвета волос до оттенка обуви вся близких к белому цвету самых демократичных тонах, так с того самого момента – с четырех лет – Ливанна, девочка с той границы, которую справедливо было бы назвать коренной по происхождению к ней, ни на шаг не отступала от нее; и в буквальном смысле прочно прикрепилась к ней и была напарницей во всех ее делах.
А без дела барышня и на самой границе не сидела.
Когда полуживые, чахлые и вялые другие обитатели тех мест едва тащились по путям широким каменной земли, припорошенной редким песком, пылью подымавшимся от легко движения ветра – неотступно дежурившего там – и прямо в глаз – а им и все равно – то эта поселенка очень точно знала, что следует ей делать, куда нужно идти и чем заняться стоит в момент определенный, в час любой.
И ее нисколько не смущала та атмосфера, что их окружала; и то, что девочке Ливанне было всего четыре полных лет, помехой не считала и едва задумывалась она о том – всего пару раз – что девочки в том возрасте ведут себя иначе. Где бы они ни были. И даже на границе.
А на границе в общем, чем заняться было. Тем более, что руки живой в полной мере этой характеристики окрестности почти не знали. Из всего населения, довольно многочисленного и регулярно, почти что каждый день все пополняемого новыми приезжими, к месту определенными живые души представляли собой одиночек в численном составе трех человек – моменту приезда светловолосой барышни именем Элеона.
С одним из них встретиться было не трудно, другой же – это девочке, а третий очень точно ходил сам по себе и не появлялся на больших дорогах, и сторонился знакомства всякого, любого, даже случайного пересечения. Но в том не было пугливости, как могло показаться – нет, совсем, ничуть; была в той нелюдимости сокрытая живая восприимчивость к дурной атмосфере и каменной земле. А раз так, то нетрудно было ему скрыться, убрать с глаз долой проклятую картинку.
И скрылся этот человек в глубине густых лесов у самой границы, у самой пропасти, у самой бездны, у самой пустоты занявшими большой клочок земли. Невесть откуда взявшиеся, они совсем не вписывались в общий портрет местности…
Зато в лесу том вписывалось все.
Чтобы не оказалось, какая бы вещица и кто бы – и в любом наряде – какой бы наружности и какой манеры не ступил на его тропы – все вписывалось безусловно, ничто не оставалось безучастно к чужеродному предмету – и хвоя ложилась так, что по направлению сглаживала точно острые углы костяной резной шкатулки, принесенной барышней Элеоной, и река струилась так, что в такт с отливами на гладкой поверхности этой вещицы отвечали тихому шороху ветра по траве, деревьям мохнатым и уже упомянутой реке.
Речка протекала извилисто, и смело огибала все прямые тропы на своем пути, и вслед за ней убегала очередная случайная мысль, приходящая девочке в голову, одна из тех, которые никак не удавалось выстроить в какую-либо последовательность. Эти размышления по реке скользили и никак не представляли собой хотя бы одну общую – целостную – картину.
Вот чему учат детей на самой границе? Но они с самых ранних лет знают, что такое целостность семьи, при том, что ни единой семьи в этих поселениях не было; и дети здесь очень быстро растут.
Они точно также, как и в городах больших дорог скачут по своим, скачут вокруг и около, исчезают и пропадают и точно также в окошки своих домов выглядывают соседей и наблюдают, как солнце садится, как оно аккуратно, а иногда – и как неродное – заходит за горизонт, и тот его поглощает абсолютно, оставляя лишь прекрасный цветной след.
Дети здесь очень наблюдательны и чаще всего молчаливы; и у каждого из них одна беда – у них дома. У них нет дома по определению того места, где они растут. Места, где можно выжить только с кем-то, только держась кого-то и только притом, что обязательно ты дашь что-то в ответ; но все здесь порознь.
В этом состоит смертельная нестыковка с одним из правил этого мира – с тем правилом, которое говорит о том, что люди все по своей природе эгоистичны, но коллективны. Здесь же коллектив никогда не будет целостным, а при малейшей попытке поддаться эгоистическим настроениям у несчастного тотчас же снесет крышу, и никогда, и никогда он больше не найдет себя в этом месте – пока он у самой границы.
Но детей учили целостности семейной, рассказывали и о том, как, бывает, люди дружат – так дружат крепко, что никакими обстоятельствами, никакими самыми глупыми случайностями их не разбить.
Эти дети слушали и знали про других людей – о тех, которые владеют мудростью о том, что нельзя, нельзя, ни за что нельзя расставаться друг с другом по каким-либо соображениям.
Эти дети слушали сказки о людях живых; о тех, что заселяют города больших дорог, где растут герои – из таких же вот, как и они, детей.
О них они мечтали, и не было интереснее ничего им, как только успеть еще обговорить о том с новыми приезжими, их новыми соседями – пока они те еще, пока они еще из тех людей, пока они еще живые люди.
Они каждый раз удивляли этих маленьких детей. Граница составляла свой мир, и составляла свое обособленное существование на краешке большого мира, и там не было причин кого-то принимать или отталкивать бездумно, там не было необходимости загадывать о большем и большее искать; те люди не владели умением прощать и оскорбляться – им это было ни к чему.
Но те, из городов больших дорог – люди живые – какие они были! Во всем, что они делали, был какой-то смысл, все – всякое движение их, всякая идея и слово любое – все подчинялось какой-то высшей цели, большему интересу – и все им было интересно, все без исключения.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.