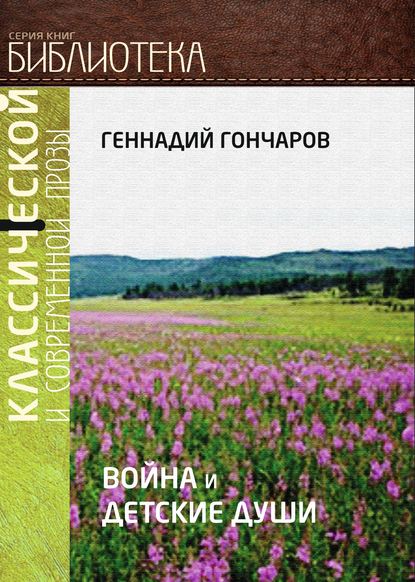Полная версия
Муаровая жизнь
– Янина, я хочу сделать Вам предложение. Выходите за меня.
– Да, – ответила девушка, ни секунды не задумываясь. Она смотрела снизу вверх на высокого молодого человека. Не веря своему счастью, привстала на носочки, чтобы оказаться ближе к его красивому лицу. Закрыла глаза и поцеловала Терентия в губы.
И вот день, наступление которого она больше всего боялась, принес ей несказанное счастье.
– Ольга Феликсовна, мне сделали предложение, и я его приняла, – с искрящимися глазами, держа за руки приемную мать, проговорила Янина. После разговора с Терентием она поспешила поделиться радостной новостью с самым близким человеком.
– Ну, слава Богу. Надеюсь, сейчас меня никто кроме тебя не слышит? – шутливо озираясь, проговорила Ольга Феликсовна. – А то вера нынче не в почете.
– Терентий – прекрасный человек, он Вам понравится, – продолжила Янина.
Ольга Феликсовна удивленно и немного непонимающе взглянула на дочку.
– Я понимаю, что сначала нужно было спросить и посоветоваться с Вами, – начала оправдываться Янина, – но все произошло так быстро.
– Да уж быстро, но это твоя жизнь, и то, как и с кем ты ее проживешь, решать исключительно тебе самой. Прошли времена подбора пары для своих детей.
В тот день Ольга Феликсовна пришла домой рано, чего обычно с ней не случалось. Муж сразу же забеспокоился, ведь это так не похоже на его жену.
– Дорогая, ты приболела? – спросил, выйдя в коридор из комнаты.
– Со мной как раз все хорошо. Он совсем ей не пара, – сетовала Ольга Феликсовна мужу. – Костя, ты бы его видел, он такой надменный. У меня и в мыслях не было, что наша Яночка ему приглянется. Он самовлюбленный нарцисс. Недосмотрела я, не уследила, – причитала, почти плача, Ольга Феликсовна. – Кирилл Эдуардович – такой замечательный человек, так нежно ухаживал, а она выбрала первого встречного. Нет, ну он, конечно, красив, как Бог, но внутри, кажется, человек с гнильцой.
– Вот поэтому-то раньше и решали родители, за кого замуж выходить и на ком жениться, потому что малы, импульсивны и глупы дети. Мы старше, нам виднее, – спокойно и монотонно, в своей манере, проговорил муж.
– Я не могу с ней так поступить, не имею на это права. И потом, может он действительно неплохой человек, и, узнав его получше, мы изменим свое мнение.
– Тогда пусть все идет своим чередом, – высказал свое мнение по этому поводу супруг.
Янина светилась от счастья.
– Мне кажется, у меня выросли крылья. Это и есть счастье? – спросила она Ольгу Феликсовну после росписи.
– Для меня счастье – это когда я вижу тебя такой и знаю, что у тебя все хорошо, – ответила Ольга Феликсовна.
Пока Терентий находился на больничном, молодожены жили во второй комнате у приемных родителей Янины. Когда военная комиссия признала его снова пригодным к службе, вернулся в военное училище в казарму. Теперь их встречи были очень редкими, лишь в часы увольнительных. Но скучать Янина не успевала, дни летели, словно осенние листья, подхваченные ветром. В госпитале много работы, в институте сессия, свободного времени совсем не было, поэтому соскучиться по Терентию не успевала.
Прибежав с института, Янина собиралась в госпиталь и услышала, как кто-то пришел к Ольге Феликсовне.
– А кто приходил? – спросила Янина, выйдя в коридор квартиры и застегивая сумочку.
– Яночка, скажи мне, пожалуйста, а что вы с Терентием решили насчет детей? – задала странный вопрос Ольга Феликсовна, держа в руках конверт.
– Рано нам об этом думать. Я учусь, Терентий тоже. Сначала учеба.
– Понятно, – немного растягивая слово, проговорила Ольга Феликсовна.
– А почему Вы об этом спрашиваете?
– Только что приходила бывшая жена Терентия с сыном.
Янина так и замерла, услышав это. Он никогда ей об этом не говорил: ни о жене, ни о сыне. «Не говорил, значит, мне это знать не полагается, – подумала Янина. – Сейчас мы так мало времени проводим вместе, что говорить о неприятных ему вещах незачем. Захочет, сам расскажет». И никогда об этом не спросила. Она всегда чувствовала, о чем лучше с ним не говорить, какие темы не обсуждать.
Глава 7
Общежитие
Факультетский сын. Так меня называли среди студентов, я был единственным ребенком, имеющим привилегию жить в общежитии, поэтому баловали меня все.
Пока был мал, хлопот доставлял немного. Точнее, заботы были в основном со стиркой. Вначале комната, в которой жила мама и ее девять подруг, наполнилась веревками, которые были причудливо натянуты от стены к стене в хаотичном порядке. На них постоянно висели и сохли мои пеленки, чуть позже добавились ползунки.
По мере моего роста эта небольшая комната с пятью кроватями наполнялась все новыми и новыми моими атрибутами. Через несколько месяцев от рождения меня уже нельзя было оставить на кровати без присмотра. Ребята с курса придумали, как быть. Пробравшись внутрь женского общежития через комнату Зинки, смастерили для меня манеж. Они раздобыли где-то два гамака, которыми обтянули одну из кроватей, и опасность моего падения была устранена.
К годику под кроватью вместе с корытом для стирки и моего купания красовался эмалированный голубенький горшочек с крышечкой. Его предназначение мне объясняли всем общежитием, потому что стирка и глажка, думаю, утомила всех. Теперь с появлением горшка образовался небольшой просвет в пеленках, которые вывешивали. Но забот добавилось. Я пошел и заговорил. Пол походил на минное поле. Все несли мне всё, что, по их мнению, могло бы стать игрушкой, а я радостно разбрасывал это по комнате. Ночью, после смены, добраться тихонько до своей кровати никто не мог: срабатывали мои игрушки-ловушки. Но ни одна из жительниц комнаты ни разу не возмутилась. Каждую ночь схема была одна и та же: темная комната, кто-то крадется к кровати на цыпочках, шум от падения, смех девушек, мой плач, а потом снова меня убаюкивают.
В 1933 году Анастасия закончила филологический факультет и получила назначение на работу учителя в Рашевскую среднюю школу, на западе Украины. Попрощавшись с подругами, которых также направили преподавать в другие районы страны, мама взяла меня за руку, и мы двинулись в путь.
В кабинет к директору мама зашла почти сразу, как приехала в земскую школу. Выпускаясь из института, Анастасия очень просила руководство деканата распределить ее в Херсонскую область, поближе к родным, но получила отказ, и отправили ее «куда требует Родина».
Зайдя в кабинет, подала документы об окончании института на стол директору и направление на работу. Я стоял рядом, держа ее за руку. Директор вышел из-за рабочего стола, поздоровался за руку с мамой, представился:
– Михаил Григорьевич, ваш непосредственный руководитель.
Снова присел за стол. Мама осталась стоять, присесть ей не предложили. Бегло изучив поданные документы, сказал:
– Рад, что в нашем коллективе появился новый молодой преподаватель. Но есть небольшая проблема, как я вижу, – и он посмотрел на меня, – но я сразу же напишу прошение в детскую колонию. Согласно Указу правительства, Вы как преподаватель и агитационный работник будете круглосуточно находиться в школе и должны полностью отдаться работе, а он, – директор рукой показал на меня, – будет отвлекать. Поэтому я Вам даю несколько часов разложить вещи и организую, чтобы Вас с сыном сопроводили в колонию. Это недалеко, пятьдесят километров от села, на выходных сможете навещать.
Мама молчала, не возразила, потому что время такое было. Никто не мог возразить, если так решено правительством. Кто перечил власти, оказывался в северных лагерях, или без суда расстреливали. Она даже заплакать в присутствии директора побоялась. Только в момент, когда руководитель школы произнес слово «колония», она сильно сжала мою руку, наверное, в тот самый момент так же сильно сжалось ее сердце. Мне сделалось немного неприятно, но я остался стоять смирно, как меня учила мама.
Учителя жили прямо в школах, в классах. Но не это оказалось самым страшным препятствием. Правительство приняло решение, что преподаватели – это лучшие агитаторы власти. Они образованы, начитаны, грамотны. Народ сильно сопротивлялся коллективизации. Поэтому на обязательных для всех в городах и селах вечерних занятиях, где учениками было взрослое население, преподаватели вели пропаганду правительственной программы. Для работников школы ввели казарменное положение без возможности отлучаться из зданий школ, за исключением выходного дня и лишь по письменному разрешению директора. Для тех учителей, которые имели ребенка, был приказ: «Забрать! И в колонию на обучение». Сложно себе сейчас представить, чем руководствовались люди, управлявшие страной. По их мнению, меня лучше воспитают в колонии, нежели родная мать-педагог. И я же был не единственным таким ребенком. По всей стране множество сирот, чему поспособствовал голод и разруха. Но больше всего сирот было искусственно созданных, потому что лагеря наполнялись репрессированными заключенными. К этому списку еще добавили и детей учителей.
О чем говорили взрослые я, конечно, не понял, мал совсем был. Не понял также, почему мамины глаза начали темнеть, как в моменты, когда ей становилось грустно.
– Вы единственный преподаватель с высшим образованием в нашей школе. Дети нуждаются в хорошем педагоге, – проговорил директор, когда мы выходили из кабинета, тем самым стараясь ее приободрить, затронув тему обучения.
Вот так странно – дети нуждались в моей маме, а я ее потерял. Они проводили с ней так много времени, как же я им потом завидовал! Я жил с чужими воспитателями, а она учила чужих детей. Но мама любила свою работу, которая ее отвлекала от боли и тоски по родному ребенку. Всегда надеялась, что где-то там, в нескольких десятках километров, есть учитель, который так же учит меня.
Что происходит, не осознавал, и, увидев повозку и лошадь во дворе школы, обрадовался еще одному приключению с мамой. Как же я ошибался! Я расстался с единственным близким и дорогим мне человеком.
Глава 8
Савёнок
Мысль о том, что ты одинок в этом мире, ребенок воспринимает совсем по-другому, не так, как взрослый человек. Только спустя годы и смотря назад в прошлое, понимаешь, как ты был одинок и никому не нужен. Но только не в возрасте неполных пяти лет. Твои глаза в этом возрасте широко смотрят на мир, и доверие к нему не исчезает. Ты шагаешь смело и уверенно по жизни, будучи таким, по мнению взрослых, беззащитным. Но ведь они не знают, что если ты голоден, то вполне можно сбежать на базар, где сочувствующие люди подадут, сжалившись, потому что вид твой всегда, мягко говоря, неопрятен, лицо замурзано, глаза просящие. И в твои годы тебе это совсем не помеха, а даже помощь в добывании пищи. Кроме того, давно уже умеешь стащить у зазевавшихся продавцов, что повкуснее. Например, конфеты. О, это моя слабость из слабостей. Ни одна колбаса не сравнится с этими дорогими сердцу сладостями в ярких обертках! Конечно, не всегда все удавалось гладко, и страдало или ухо, или то, на чем потом долгое время не очень комфортно сидеть, но это того обычно стоило. Ведь ты в данное время ничей, ты интернатовский подкидыш. Так обычно нас называли продавцы вдогонку, когда мы удирали, держа в руках кусочек колбасы, яблоки за пазухой или что другое. Но мы в этом своем положении видели и прелесть. Так бы повели к родителям, стыдили, вычитывали, при этом держа за ухо. А ты этого избегаешь, если случилось, что поймали и узнают, что твой дом колония, понимают – тебя не к кому вести, некому говорить о твоих проступках. Пара затрещин, накрученное ухо, и снова свобода.
Нас таких в те годы было много. Мои первые, более четкие, воспоминания детства связаны с колонией, когда мне было неполных пять лет. Она немного отличалась от колонии, которую Вы себе сразу представили, но уклад и быт имела, все же соответствуя названию.
В довоенное время оказалось большое количество детей, родители которых были репрессированы. Поэтому создали детские колонии, куда свозили детей разного возраста – от трех лет до шестнадцати – из разных уголков страны. Отдельно создали мужские и женские детские колонии. Немного позже их переименовали в интернаты, но это были далеко не детские дома или приюты для детей, оставшихся без родителей. Для меня в памяти это самая настоящая колония, название изначально было подобрано правильно. По периметру натянута колючая проволока в десяток рядов от столба к столбу, при въезде круглосуточная охрана, разве что без оружия, и отсутствовали смотровые вышки с часовыми, но это не отменяло внутренний уклад и то, куда я попал.
На территории колонии располагались бараки, в которых размещали по двести детей в зависимости от возраста. Еще был отдельный барак под столовую и хозяйственные нужды, итого пятнадцать строений. Каждый барак делился на шесть групп, в каждой из которых работало два воспитателя, исключительно мужчины. Как и положено в режимном учреждении, все делали по часам и под присмотром воспитателей, но это никоим образом не мешало внутри колонии устроить свой мир и установить свои правила. Так, на завтрак, обед и ужин в столовой давалась пайка хлеба. Нас строем по два человека приводили в столовую на свое время воспитатели, и мы усаживались за стол, рассчитанный на тридцать человек – по пятнадцать с каждой стороны – на длинные деревянные лавки.
На завтрак, обед и ужин выдавали пайку хлеба весом примерно сто пятьдесят грамм. Цвет и вкус был так себе. Но мы всегда были голодными, и поэтому для нас этот небольшой, темного цвета кусочек хлеба из ржаной и кукурузной муки был самым вкусным. Мы другого никогда и не ели. Пайку хлеба, что давали на завтрак, можно было съесть, так же, как и вечернюю, выдаваемую на ужин, но только не обеденную. Ее необходимо было искусно спрятать в карман и отдать дежурившему в этот день старшому. Уплатить оброк пацану лет четырнадцати, которого на этот день назначил главарь местной банды сборщиком налога с остальных. За это обычно давали одобрительную затрещину: «Мол, молодец!» Вот если ты этого не сделаешь, не отдашь незаметно небольшой кусочек хлеба, на выходе из столовой, на площадке за бараками, в обеденное свободное время тебя поколотят сильнее. Но, даже зная, что за неповиновение могут побить, я не мог смириться с несправедливостью. В знак протеста я ее, так сказать, подравнивал. Со всех сторон общипаю, помну в руках крошечки – и в рот, хоть как-то утолив голод.
– Чё общипанная такая? – грозно спросил приемщик дани.
– В кармане обсыпался хлеб, – как всегда, не труся, отвечал я.
Попал я в это место совсем еще маленьким ребенком, мне было всего три года. Вот я помню себя обрывками воспоминаний рядом с мамой и множеством приятных мне людей, и вот я уже сам в холодном месте, в огромном помещении, и рядом множество таких же маленьких мальчишек, как я. До пяти лет младшую группу колонии, в которую я поначалу попал, совсем не совмещали с другими группами ни в столовой, ни на прогулках. Берегли, видимо, нашу психику, или просто я не очень помню это время, наверное, потому, что ничего особенного не происходило. Но с пяти лет, когда меня перевели в следующую возрастную группу, начались мои приключения. Не уверен, конечно, что они захватывающие от обилия положительных эмоций, но то, что запоминающиеся на всю жизнь – это да.
В течение недели воспитателей было много, и все ребята ждали заветного воскресенья. Надзор слабее, свободного времени для игр больше – настоящий выходной. На один барак остается лишь один воспитатель, который разрешал на улице быть подольше, играть в футбол хоть до потери пульса, обычно весь день, занимаясь своими делами. Не замечал он разборок между ребятами во дворе и что из двухсот воспитанников, совсем уж не смирно сидящих, десятка-то и не хватает. Но покидать территорию колонии могли далеко не все воспитанники, а лишь избранные и состоящие в рядах банды.
В один из дней после обеда на спортивной площадке ко мне подошли старшие ребята из колонии. Их все побаивались, они обычно ходили по несколько человек, часто подходили ко всем и раздавали затрещины или подзатыльники, пока воспитатели отвлекались. Что нравилось у ребят, они отбирали, и никто не мог пожаловаться, никто им не перечил. Все знали – эта особая группа называла себя бандой, и это они устанавливали внутренние правила, которым следовали все остальные. Они были старше и сильнее и любили это демонстрировать на младших. Такая демонстрация силы мне была не очень по душе, ведь как может парнишка лет девяти противостоять нескольким четырнадцатилетним, уже сформировавшимся бугаям. Банда состояла примерно из двадцати ребят из разных групп, в основном старших, поэтому я очень удивлялся: ну зачем им у нас, мелкотни, как они нас называли – «крысят» – забирать наши детские игрушки, им всем больше тринадцати лет. Зачем им наши фантики от конфет, которыми мы играли или менялись, зачем наши палки, которые мы представляли автоматами или пистолетами. Придут на площадку в наше время прогулки, отберут игрушки у некоторых, другим поломают, поплюют вокруг, ногами важно пошаркают, держа руки всегда в карманах при этом, сделают нам пару подножек, выпишут некоторым пару затрещин, пока воспитатели не видят и при слове: «Шухер! Воспитатель!» – быстро убегут, словно и не было их.
Но в этот день воспитатель нашей группы отошел надольше. Его вызвали к руководству, и бригадные не упустили возможность дольше поиздеваться над нами. Обычно воспитатели отходили перекурить, по правилам это строжайше запрещалось, но они его частенько нарушали. В эти как раз минуты мы оставались сами, и нас навещали мучители.
– Как зовут, малой? – спросил меня, видимо, самый главный среди пришедших старших ребят.
– Савва, – ответил я довольно громко, как мне показалось. Тогда и не понял, от страха это так получилось или не хотел уступать им ни в чем.
– Я здесь главный для пацанов, это мне вы, молокососы, пайки отдаете, и я ими распоряжаюсь. Зовут меня все мои Ленька, – сказав это, он важно сплюнул через плечо на землю. Старшие мальчишки вообще все время плевали, признак значимости, видимо.
– Ну и че? – снова сказал я дерзко и чуть сам себе рот руками не закрыл от страха, что такое вырвалось: таким тоном, да еще и главарю их шайки.
– Ишь, какой смелый малой! – сказал Ленька, обернувшись к остальным, – не ссыкун, как все остальные. Нашим будешь. Мне как раз такой, как ты, нужен на дело. А ну, покажи руки.
Я протянул обе руки, еще удивился, что не дрожали, хотя внутри все трепыхало. Главарь многозначительно на них посмотрел и сказал:
– Годится, в воскресенье пойдешь с нами на дело. Только никому не говори, – он вел меня уже по-дружески к своим, стоящим неподалеку у барака пацанам, держа за плечо, будто мы хорошие приятели. – Щас познакомлю с нашими. – Я им всем по пояс был, но стоял, положив руки в карманы брюк, как они. Сам же от страха готов дать стрекача, но стою, важничаю. Ленька начал знакомить.
– Это Косой, он у нас на шухере обычно стоит. Это Карась, это Гусь.
Остальных я и не запомнил сразу. Эти сразу запомнились, потому что у Карася глаза были немного на выкате, как у рыбы, а Гусь так смеялся, словно гусь гогочет. Видимо, поэтому клички такие и дали. А Косой косил одним глазом. Я еще тогда усмехнулся про себя: «Тоже мне, на шухер определили того, кто в разные стороны смотрит», – но потом убедился, что он лучше и быстрее всех сообщал об опасности. – А ты будешь Савёнок! Так из Саввы на время я превратился в Савёнка.
Глава 9
Воскресенья
Я прошел первый свой жизненный экзамен там, на площадке, не уступив Леньке, не струсил и не убежал. Думаю, и в драку бы полез, не посмотрев, что он намного старше и что главарь местной шайки, что я в будущем и делал частенько, стоило кому-то меня затронуть. Я получил свою роль в этом царстве одиноких не по своей воле, брошенных жизнью детей.
Наступило воскресенье и, выйдя на площадку, увидел, как меня поманил пальцем Гусь. Когда воспитатель отлучился на перекур, я ускользнул к другим баракам, где меня уже поджидали все остальные.
– Все в сборе? – спросил Ленька, осматривая нас. – Вроде все. Ну, пошли.
И мы начали пробираться небольшими перебежками от стены одного барака к стене другого, пригибаясь у небольших окон, чтобы нас не заметили. Я среди них самый маленький был, еле поспевал, но держался рядом, не отставая. При слове «шухер» от Косого все молниеносно залезали под барак, который стоял на больших деревянных опорах. Это у меня получалось лучше всех.
– Крысенок, молодцом! – проговорил Ленька, когда мы прошли почти все бараки.
– Я Савва, – поправил его я, громко и четко проговаривая буквы своего имени. Прозвище «крысенок» мне совсем не нравилось.
– Савёнок, не бузи. Ты действительно уже не как все, но и кто здесь старшой, не забывай, – сказал главарь, отвесив мне несильную затрещину.
В драку я тогда не полез, потому что, во-первых, он назвал меня кличкой, которая мне с первого раза понравилась и походила от моего имени, а, во-вторых, уж очень хотелось попасть за колючую проволоку, на свободу, а это могло произойти, только если я смирюсь и подчинюсь Леньке.
Все, что нужно преодолеть, – это колючую проволоку, и ты свободен.
Последний барак был отведен под хозяйственные нужды, по выходным дням из прачечной с самого раннего утра вывешивали стирку. Большое количество рядов натянутой проволоки, на которой развевались простыни, полотенца и наша форма. Простыни развевались на ветру, словно большие паруса галер. Я всегда был фантазером и сразу же представил себя пиратом, который на своем корабле движется на абордаж. Старшие ребята, забыв о своем возрасте и конспирации, гоняли со мной сквозь простыни. Мы уже были на хорошем удалении от основных корпусов, на самом заднем дворе колонии, поэтому нас никто не видел и не слышал. В другое воскресенье я представил себя шпионом, который должен пройти так, чтобы меня не коснулась ни одна простынь, иначе проиграл. И снова старшие подхватили мою игру. Моя детская фантазия безгранично выдавала все новые и новые идеи.
В момент игр детство проходит одинаково весело у всех детей. Они, наверное, от природы наделены качеством легко забывать на какое-то время беды и горе, воспринимая их по-другому. Все плохое, что нас окружало, находилось где-то там, за линией горизонта. Где-то там моя мама. Ко мне она приезжала совсем не часто, примерно раз в месяц, и эти дни я ждал с нетерпением и отпускать ее не хотел, когда приходило время снова расставаться. Но на следующий день я уже снова несся с другими ребятами по территории колонии, играя в лапту или казаков-разбойников. И ни у одного из нас в эти мгновения не было грусти в глазах. Они светились радостью.
В первое мое свободное воскресенье, набегавшись в «парусах», мы вышли к месту, которое было скрыто от глаз охранников, стоящих на въезде в колонию, совсем с другой стороны. А благодаря все тем же рядам стирки совсем не было видно, что мы делали на заднем дворе. Увидев через колючую проволоку бескрайние поля, я от радости аж начал топтаться на месте в предвкушении приключения.
– Постой, Савёнок, не торопись, сейчас выпустим тебя на свободу, – и снова я получил одобрительный дружеский подзатыльник от Леньки. Потирая затылок, смотрел, что нужно делать.
– Рогатки, – скомандовал Ленька. Ему протянули две рогатки, это оружие имелось у большинства. Как видишь, что у кого-то спадают штаны, знай, резинка пошла на рогатку. Только вот стрелять из нее не совсем удобно, держа свои штаны одной рукой. Но после смены белья каждый мечтал, что ему попадется комплект, где в штанах будет заветная резинка.
– Палка, – главарю протянули прочную длинную палку. Он привязал к ней с каждого конца по рогатке. Этим изобретением и раздвигали натянутую колючую проволоку и беспроблемно, а главное – оперативно пролезали. Если перерезать проволоку, то лаз заметят охранники, обходящие вечерами периметр. Когда все были уже на другой стороне, рогатину обязательно с собой забирали, и по дороге в роще прятали под кустом, после же вернуться нужно тем же способом.
– Айда на базар! – Ленька побежал по склону, а мы гурьбой за ним, вдыхая запах свободы всей грудью. Ветер свистел у меня в ушах, я, кажется, не бежал, а кубарем скатывался с каждого последующего пригорка, несколько раз теряя по дороге ботинки на несколько размеров больше, чем моя нога.
Село и базар находились совсем не далеко от колонии. Завидев небольшие домики, мы перешли на шаг. Проходя селом, наш главарь здоровался со многими, многие его приветствовали в ответ. Он был здесь словно свой. Я любопытно смотрел по сторонам, крутя головой.
– Не крутись, щас тебе все расскажу, что нужно делать. Косой и Савёнок со мной, остальные здесь, как обычно, все осмотрите, – Ленька повел нас на базар, а остальные разбежались по селу.
– Значит, так, – Ленька начал меня учить, когда мы стояли на базаре, немного поодаль от рядов. Косой изучающе всех осматривал и приветливо улыбался. – Ест тот, кто работает. А в банде тот остается, кто докажет свою преданность и добудет еду. Все усёк?