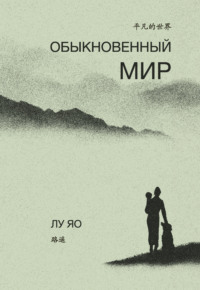Полная версия
Судьба

Лу Яо
Судьба

Издание осуществлено при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной программы «Культура России (2012–2018 годы)»

Перевод В. И. Семанова
Слово автора к русскому изданию 1988 года
Ваша замечательная литературная традиция оказала большое влияние на мою жизнь и творчество, поэтому я всегда питал особые чувства к вашей стране. Увидеть свою повесть в переводе на русский язык для меня большая честь. Я пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить за это издательство «Молодая гвардия», которое хорошо известно в нашей стране. Многие китайские читатели знают, что именно в этом издательстве увидел свет знаменитый и очень дорогой для нас роман Н. Островского «Как закалялась сталь». Вы можете догадаться, какие чувства я в связи с этим испытываю.
Лу Яо
От переводчика
С повестью Лу Яо «Судьба» (1982) я познакомился еще в Москве, до недавней поездки в Китай. Тогда было уже известно, что Лу Яо принадлежит к тем китайским писателям, которые вышли на литературную арену после «культурной революции». Повесть «Судьба» – его первое сравнительно крупное произведение, вызвавшее в Китае большой отклик. Она привлекала прежде всего тем, что рисовала и деревню, и город, отражала самые современные жизненные коллизии, хотя и прошлое порою делалось в ней предметом воспоминаний. Вокруг этой повести возникли споры как среди читателей, так и среди критиков, но в конце концов новый автор был признан и стал одним из лауреатов Всекитайского литературного конкурса 1983 года.
Потом я увидел фильм по повести Лу Яо, обошедший многие страны мира. Он был лиричен и красочен (особенно хорошо изображалась в нем деревенская свадьба), но все-таки уступал повести в раскрытии социальных конфликтов, например, в обрисовке отрицательных персонажей, в отражении жизни города. И, наконец, в Китае я встретился с самим Лу Яо: человеком очень простым и в то же время умным, вдумчивым; чуть старше, чем я себе представлял. Он уже заместитель председателя Союза писателей провинции Шэньси – одной из северных провинций, которые дали Китаю и всему миру такого замечательного прозаика, как Чжао Шули, известного в нашей стране рассказами «Женитьба молодого Эрхая», «Песенки Ли Юцая» и другими колоритными произведениями о китайских крестьянах.
Характерно, что недавний роман Лу Яо – «Обыкновенный мир», появившийся в 1986 году, тоже посвящен деревне и возвращает читателей к периоду «культурной революции», из-за которой погиб Чжао Шули. Автор добивается широкого охвата исторической действительности, активного использования национальных традиций. Одновременно Лу Яо связан и с европейской культурой, с русским творческим наследием.
Сейчас, когда в Китае происходят большие перемены в общественной жизни и стала актуальной проблема восприятия западной культуры, знаменательными оказываются мысли Лу Яо о том, что для писателя одинаково важны и творческая свобода, и чувство социальной ответственности: «Мы не можем потакать низменным эстетическим запросам определенной части общества»; «Писатели никогда не должны утрачивать ощущения того, что они – простые труженики. Если мы начнем с прохладцей относиться к трудовому народу, то наши сочинения превратятся в траву без корней».
Отсюда вытекает еще одна важная мысль Лу Яо – о том, что корни нации прежде всего – в деревне. Этим повесть «Судьба», как и многие другие современные китайские произведения, близка к нашей «деревенской» прозе. Автор не идеализирует простых людей, показывает равно как их трудолюбие, бескорыстие, честность, так и недостаточную культурность, боязнь спорить с деревенским руководством. И все-таки именно крестьяне – при всех необходимых оговорках – становятся в повести средоточием нравственного начала.
В Китае последних лет развилась целая «литература поисков корней», но это не совсем то, что предлагает нам Лу Яо, а скорее идеализация старины и первозданных сил в духе китайского почвенничества или латиноамериканского «магического реализма». О такой литературе Лу Яо как раз говорит с осуждением: «Еще неизвестно, стоит ли призывать всех писателей и художников удаляться в “первобытные леса” для “поисков корней”».
Разумеется, в повести молодого автора, да еще написанной после длительного периода упадка китайской культуры, отнюдь не все безупречно и в развитии художественной мысли, и в стилистической палитре. Тем не менее «Судьба» привлекает необычным для современной китайской литературы вниманием к любви, отчетливой социальностью, преподнесенной в достаточно мягкой форме. Недаром в аннотации к китайскому изданию сказано: «Повесть изображает сложные жизненные коллизии. В ней сплетаются воедино город и деревня, общество и семья, взлеты и падения, надежда и раскаяние, любовь и тоска. Все это складывается в правдивую картину современной общественной жизни».
Глава первая
К вечеру небо заволокло густыми тучами, земля, до этого дышавшая жаром и заполненная звуками, вдруг затихла, и даже самые шумные насекомые перестали стрекотать, как будто в нетерпеливом ожидании. Ни ветерка, ни пылинки. Лягушки вылезли из реки на берег и бессильно зашлепали к посевам, к дороге. Вокруг по-прежнему было жарко, как в парильне, но с западных гор плыли все новые черные тучи. На горизонте уже сверкали первые молнии, однако грома не было слышно – вместо него раздавался какой-то непрерывный глухой треск, внушавший людям страх: приближалась сильная гроза.
В этот самый момент Гао Цзялинь, временно работавший деревенским учителем, перешел вброд речку и почти бегом возвращался в свою деревню Гао. Он только что участвовал в совещании деревенских учителей в правлении коммуны, по дороге изрядно вспотел и сейчас нес майку и красивую синюю рубашку в руке. Взобравшись на каменистый берег, он уже на пороге дома услышал басовитый гул, доносившийся издалека.
Отец Цзялиня сидел на корточках на кане[1] и курил трубку, задумчиво теребя седую бородку. Мать, ковыляя на своих бинтованных ножках, несла на кан еду. Когда старики увидели сына, их сморщенные лица, напоминавшие грецкие орехи, тотчас расцвели. Оба были просто счастливы, что сын успел вернуться до грозы. К тому же им казалось, что он отсутствовал не пять дней, а пять лет.
Гао Юйдэ тут же подошел к керосиновой лампе и, улыбаясь, начал поправлять фитиль. В комнате сразу стало светлее. Старик пошамкал губами, но ничего не сказал. Мать поспешно убрала со стола грубые кукурузные пампушки и, подойдя к плите, принялась готовить сыну яичницу да лепешки из белой муки; затем вернулась к кану, подобрала брошенную сыном рубашку и накинула ему на плечи с ласковым ворчанием:
– Вот негодник, простудишься!
Цзялинь ничего не ответил, только снова сбросил рубашку и, даже не снимая туфель, лег на свою постель, отвернулся к окну.
– Мама, не готовь ничего, я не голоден…
Старики тревожно переглянулись, и их лица опять стали похожи на грецкие орехи. Мать дрожащим голосом произнесла:
– Цзялинь, тебе что, нездоровится?
– Нет.
– Может, повздорил с кем? – подхватил отец.
– Нет, нет…
Цзялинь никогда не вел себя так! Каждый раз, возвращаясь из города, он им обо всем рассказывал, да еще приносил кучу съестного: хлеб, пирожные и прочее, и совал им в руки, говоря, что зубы у них уже плохие, а эти продукты и мягкие, и полезные. Сегодня у сына наверняка что-то стряслось, иначе не тосковал бы. Глядя на печальное лицо жены, Гао Юйдэ машинально выбил свою трубку о кирпичный край кана, достал из-за пазухи платок и вытер вспотевший лоб. Затем подвинулся к сыну:
– Цзялинь, что же все-таки случилось? Расскажи нам! Погляди, как мать волнуется!
Юноша медленно приподнялся, словно тяжело раненный. По-прежнему не глядя на родителей, он потухшим голосом произнес:
– Я больше не смогу преподавать…
– Что ты такого наделал? О небо! – Мать уронила на плиту черпак из тыквы-горлянки, и он раскололся надвое.
– Разве у вас сокращают учителей? – добавил отец. – Ведь в последние годы все новых набирали, почему вдруг сейчас сокращают?
– Нет, не сокращают… Если меня отстраняют от преподавания – это не значит, что других не берут!
Тут только старики начали кое-что понимать. Отец как можно мягче спросил:
– Кого же берут?
– Кого, кого! Известно кого – Саньсина! – Цзялинь яростно бросился на постель и закрылся с головой одеялом.
Старики точно одеревенели. А за окном все сильнее стучал дождь, выл ветер, гремел гром. Оконная бумага[2] непрестанно озарялась всполохами молний.
Парень по-прежнему лежал, закрывшись с головой одеялом. Серьезный удар для семьи! Когда Цзялинь, закончив школу, не прошел в вуз, он уже натерпелся достаточно. К счастью, его взяли в деревенские учителя, и он мог не работать в школе, а по-прежнему учиться, хотя бы самостоятельно, и заниматься своей любимой литературой. За три года учительства он даже опубликовал в местной газете несколько стихотворений и очерков. Теперь всему конец, придется вслед за отцом вкусить тяжелого крестьянского труда. Хотя он никогда не работал по-настоящему на земле, но все-таки был крестьянским сыном и знал, каково хлеборобу в этом бедном горном районе. Он вовсе не презирал крестьян, но и не мечтал принадлежать к ним и честно говорил себе, что учился больше десяти лет не для того, чтобы, как отец, стать «хозяином земли», а фактически – ее рабом.
Для Юйдэ и его жены сегодняшняя новость тоже была подобна удару палкой. Первым делом у них болела душа за своего единственного сына, которого они с детства холили, оберегали от всякого горя – он просто не выдержит каждодневного изнурительного труда! Кроме того, учительский заработок Цзялиня помогал им в эти годы жить сравнительно безбедно, а если сын займется непривычной работой, проку будет гораздо меньше. Сами они состарились, сил уже не столько, как прежде, когда они вдвоем, копаясь в земле, могли позволить сыну учиться. При мысли обо всех последствиях этого отец начал жаловаться вслух:
– Да, Минлоу, это уж ты переборщил! Здорово переборщил! Пользуешься тем, что ты партийный секретарь объединенной бригады[3], и думаешь, что любые пакости можешь делать? Мой Цзялинь уже три года успешно отслужил, а твой Саньсин едва школу закончил! Как у тебя хватило совести обижать моего сына? Ты прогневал небо, Минлоу, оно тебя не пощадит! О мой бедный сын…
Юйдэ в конце концов не выдержал и заплакал, слезы потекли по его морщинистому лицу прямо на седую бороду. Услышав этот плач, Цзялинь снова вскочил.
– Чего вы ревете? Я еще потягаюсь с этим щенком, жизни своей не пожалею! – закричал он и спрыгнул с кана.
Старик испугался, тоже соскочил с кана и схватил сына за руку. Мать со всей скоростью, какую позволяли развить бинтованные ножки, бросилась к двери и закрыла ее своей спиной. Цзялинь оказался буквально зажат между всполошившимися родителями.
– Тьфу! – в сердцах сплюнул он. – Я вовсе не собираюсь убивать его, а только хочу написать на него жалобу. Мама, дай мне ручку со стола!
Но это объяснение ничуть не успокоило стариков, им было бы легче, если б парень начал крушить в доме мебель. Отец, ни на секунду не отпуская Цзялиня, взмолился:
– Сынок, ни в коем случае не ввязывайся в это дело! Минлоу может дойти хоть до самого неба, в правлении коммуны, в уезде у него свои люди… Пожалуешься на него – ничего не добьешься, а нас он со свету сживет! Я уже стар, не выдержу такого, да и ты не выдержишь его мести – молод еще…
Мать, подскочив, схватила Цзялиня за другую руку и тоже принялась умолять:
– Сынок, хороший мой, папа верно говорит! Минлоу – человек подлый. Если ты пожалуешься на него, нам всем жизни не будет…
Цзялинь только гневно сопел:
– Чем терпеть такие издевательства, лучше уж схватиться с этим сукиным сыном! Заяц и то кусается, если его загонят, а человек тем более. Неважно, сумею ли я победить, но пожаловаться на него должен!
Он с силой дернулся, пытаясь вырваться из рук родителей, однако те вцепились в него еще крепче. Мать, покачиваясь, чуть не падая, снова взмолилась:
– Сынок, хороший мой, ты что, хочешь, чтоб я на колени перед тобой встала?
Цзялинь страдальчески мотнул головой:
– Нет, нет, мама, не надо так, я послушаюсь вас, не буду подавать жалобу.
Тут только старики отпустили сына и начали утирать слезы. Цзялинь, бессильно понурив голову, присел на кан. За окном уже не полыхала молния, но дождь лил как из ведра. От реки доносился страшный звериный рев паводка.
Мать, немного успокоившись, достала из сундука синюю полотняную куртку и накинула на обнаженные плечи сына. Потом вздохнула и снова пошла к плите готовить ужин. Отец дрожащими руками набил трубку, но долго не мог прикурить, с десяток спичек извел. О лампе совсем забыл. Наконец он затянулся, сгорбившись, приблизился к сыну и задумчиво промолвил:
– Нам ни в коем случае нельзя жаловаться на него, надо поступить хитрее!
Цзялинь удивленно поднял голову. Как же отец собирается наказать Минлоу?
Гао Юйдэ сидел с заговорщицким видом и молча курил. Наконец он поднял свое морщинистое лицо и степенно сказал:
– Слушай, ты не только не должен жаловаться на Минлоу, но и когда увидишь его, будь к нему почтителен. Не хмурься, а улыбайся! Он сейчас наверняка думает о том, как мы будем себя вести… – И добавил, обернувшись к жене: – Ты тоже слушай и тоже улыбайся, если встретишь Минлоу или кого-нибудь из его домашних. Он в этом году не посадил баклажанов, так ты завтра отнеси ему несколько штук с нашего участка. И сделай это тихо, чтоб люди не подумали, будто мы к нему подлизываемся. Эх, как ни говори, а судьба Цзялиня зависит от него! Мы люди маленькие и вести себя должны соответственно… Ты поняла меня?
– Поняла! – всхлипнув, откликнулась жена.
Глава вторая
В последний месяц Цзялинь все время ложился рано, а вставал очень поздно, но на самом деле спал совсем немного, потому что всю ночь лежал с открытыми глазами. Не отдых, а сплошная пытка. Только к рассвету, когда родители ощупью поднимались и в деревне уже начинался людской гомон, он забывался сном. Юноша смутно слышал, как мать носит со двора хворост, раздувает мехами огонь в плите, как отец забирает свою мотыгу и отправляется в горы, да еще наказывает жене, чтобы кормила сына получше… – только тогда Цзялинь, глотая слезы, засыпал.
Сейчас почти полдень. Пытаться заснуть снова бесполезно, однако и вставать не хочется. Цзялинь нащупал рядом с подушкой пачку сигарет, в которой оставалось лишь несколько штук, закурил, жадно затянулся. В последнее время он курил все чаще, даже пальцы на правой руке закоптились и пожелтели. Но запас сигарет иссяк, купить их не на что. Раньше, когда он работал учителем, то каждый месяц получал, кроме трудодней, несколько юаней, тогда на сигареты хватало…
Цзялинь выкурил одну за другой две штуки и только тогда окончательно проснулся. Хотелось еще третью, но в пачке сбереглась всего одна сигарета, он решил оставить ее на потом.
Начал одеваться – медленно, будто во сне. Наконец спустился с кана, зачерпнул воды, смочил полотенце и протер опухшие глаза. С ковшом в руках вышел во двор помыться – здесь был совсем другой мир! Яркое солнце буквально ослепляло, небо было таким голубым, будто его только что вымыли, а по нему тихо плыли белоснежные облака. В долине реки зелеными ковриками расстилались поля кукурузы – до самых западных гор. По обе стороны долины тоже высились горы, над ними витала красивая голубая дымка. На большинстве склонов, обращенных к солнцу, были пшеничные поля; некоторые из них уже успели перепахать, и они темнели бурой землей; другие, еще не перепаханные, выгорели на солнце и напоминали серовато-белые бараньи шкуры. На перепаханных полях начали подниматься посевы проса и гречихи, которые кое-где окрашивали землю в бледно-зеленый цвет. По долине растянулось несколько деревень, все в рощицах финиковых деревьев[4], так что домов почти не было видно. На току в каждой деревне стояли копны соломы, похожие издалека на шляпки желтых грибов.
Взгляд Цзялиня упал на одну из этих финиковых рощиц. Он боялся смотреть туда и в то же время не мог не смотреть. Там, среди зелени, виднелось два невысоких кирпичных дома – это была школа, в которой он проработал три года.
В школе училось больше ста учеников из нескольких окрестных деревень. В ней было всего пять классов[5], а потом приходилось учиться в неполной средней школе на центральной усадьбе коммуны. Цзялинь был руководителем пятого класса, вел там арифметику и родную речь, да еще преподавал музыку и рисование для всех остальных классов. В школе он пользовался большим уважением, и вдруг все это исчезло!
Цзялинь отвернулся, присел на каменистом берегу на корточки и начал чистить зубы. В деревне тихо. Все мужчины ушли работать в горы, а ребятишки резвятся где-то за околицей. Слышен только скрип мехов, которыми прилежные хозяйки раздувают огонь, чтобы накормить обедом своих мужей и детей; над многими домами уже поднялись голубые струйки дыма. Из зарослей тополей и ив по берегам реки несется тревожно-монотонная песня кузнечиков.
Чистя зубы, Цзялинь видел, как мать, сгорбившись, пропалывает на приусадебном участке баклажаны; ее седые волосы блестят под солнцем. Его охватило мучительное чувство стыда. Родители целыми днями в хлопотах, а он все дома киснет. В горы на работу не ходит, только пищу для пересудов дает. Односельчане к подлостям Гао Минлоу уже привыкли, а вот к бездельникам, наверное, никогда не привыкнут. Лодырей крестьяне всегда презирают. Нет, больше так не может продолжаться! Он должен признать свое нынешнее положение – все-таки он потомственный крестьянин.
Гао Цзялинь уже хотел вернуться в дом, как вдруг услышал за спиной:
– Учитель Гао, можно вас на минутку?
Юноша обернулся и увидел бригадира Ма Шуаня из заречной деревни. Ма Шуань был неграмотным и все же представлял свою деревню в административном комитете школы, постоянно участвовал в школьных собраниях, поэтому Цзялинь его хорошо знал. Это был очень простой, даже наивный, но в общем неглупый парень, весьма искусный и в полевых работах, и в торговле. На сей раз он выглядел не совсем обычно: серая нейлоновая рубашка, поверх нее, несмотря на жару, еще голубая синтетическая куртка, на голове – военная фуражка, на загорелой дочерна руке – позолоченные часы с браслетом. Новенький велосипед был разукрашен под стать его одежде: весь перевит разноцветными лентами, даже на спицы приделаны пестрые бархатные шарики. Несколько смущенный своим нарядом, Ма Шуань натужно улыбался, а Цзялинь при виде его, напротив, забыл о своих печалях, развеселился и воскликнул:
– Ишь как разрядился! Чистый жених! Ты куда едешь?
Ма Шуань покраснел, но улыбаться не перестал:
– За невестой ездил. Мне сватают вторую дочку Лю Либэня из соседней деревни.
– Цяочжэнь, что ли?
– Ее самую.
– Так ты у нас лучшую невесту из-под носа выхватываешь! – засмеялся Цзялинь. – Знаешь, ее называют «первой красавицей долины»?
– Знаю. Фрукт-то хорош, да, боюсь, мне не по зубам! Я уже который раз к ним езжу, ее родители не против, а вот сама она даже не выходит ко мне. Наверное, думает, я черен слишком да необразован. Лицом она и впрямь белее моего, а вот образования не больше: и нескольких иероглифов не знает! Да, сейчас бабы здорово зарвались!
– А ты потише к ней подходи, не торопись! Попить хочешь? Заходи в дом!
– Нет, я уж вдоволь у будущего тестя нахлебался! – ответил Ма Шуань. Он поглядел на свои золоченые часы, попрощался и, сев на велосипед, поехал к реке. Цзялинь, прислонившись к финиковому дереву, смотрел, как его фигурка пропадает в зеленом море кукурузы, потом непроизвольно взглянул на дом Лю Либэня.
Лю Либэнь не имел никакой видной должности и тем не менее считался вторым в деревне человеком после Гао Минлоу. Очень был ловок, давно занимался спекуляцией, а в последние два года развернул торговлю и греб столько денег, что на лошади не увезешь. Крестьяне всегда уважают богатых людей, однако для уважения к Лю Либэню у них была и дополнительная причина: дело в том, что его старшая дочь Цяоин два года назад вышла замуж за сына Гао Минлоу. Породнившись, двое первых людей деревни стали просто ее диктаторами. Только у них были настоящие добротные дома, окруженные крепкими заборами. Эти дома стояли в разных концах деревни, словно тигр и дракон, приготовившиеся к прыжку.
Цзялинь в отличие от своих односельчан не очень уважал этих хозяйчиков и тем более не завидовал им, кто по своим душевным качествам далеко уступают простым крестьянам. Гао Минлоу несправедлив и, пользуясь данной ему властью, обижает подчиненных, обманывает начальство, словом, ведет себя как мелкий князек. Он заграбастал даже все способности, отпущенные природой его семье: оба его сына на удивление глупы. Младший, Саньсин, без протекции и до последних классов бы не дотянул. А Лю Либэнь умеет только деньги заколачивать и двух своих старших дочерей в школу не отдавал, считая, что ученье – пустая трата денег. Девчонки красивы, как цветы, и сообразительны, да до сих пор неграмотны. Правда, младшую дочь, Цяолин, он все-таки пустил учиться, и скоро она должна закончить среднюю школу.
Сейчас Цзялинь стоял на каменистом берегу и негодовал не столько на Гао Минлоу и Лю Либэня, сколько на самого себя: да, он презирает их, но до чего сам-то докатился? Эх, не будь в деревне Гао Минлоу, можно было бы, пожалуй, остаться на всю жизнь крестьянином, но теперь он обязательно должен перерасти своего обидчика, стать сильнее его, а для этого нужно уйти из деревни! Здесь ему не справиться с такими людьми, как Гао Минлоу.
Он отнес в дом тазик для мытья и зубную щетку, открыл сундук и стал искать чистую одежду, чтобы искупаться в заводи под огородами. Тут он наткнулся на военную гимнастерку, и лицо его посветлело. Эту гимнастерку ему подарил дядя – младший брат отца, служивший в Синьцзяне, и Цзялинь берег ее пуще драгоценности.
Дядя еще мальчишкой ушел на фронт, только после революции 1949 года отыскал их семью, но за несколько десятков лет так и не смог побывать в родной деревне, а лишь время от времени присылал письма да немного денег – вот и все их родственные связи. Сейчас он уже заместитель политкомиссара дивизии, семья Цзялиня очень гордилась этим, но никакого серьезного влияния он на их жизнь не оказывал.
Держа в руках гимнастерку, Цзялинь подумал, что надо бы написать дяде письмо и рассказать о своих злоключениях: может быть, он подыщет ему какую-нибудь работу в Синьцзяне. Конечно, он у родителей единственный ребенок, они его будут удерживать, но написать дяде все-таки надо.
Родителей он надеялся уломать, поэтому тут же уселся за стол и, употребив все свои литературные способности, сочинил трогательное письмо. Завтра в городе будет базарный день, можно отослать письмо с кем-нибудь из тех, кто поедет на базар.
Этот неожиданно возникший вариант несколько успокоил его, даже обрадовал. Юноша натянул на себя гимнастерку, выскочил из дома и быстро пошел вверх по реке, к пестреющим вдали огородам. Августовские поля, да и горы, поднимавшиеся друг за другом уступами, все зеленели. Кукуруза в долине вымахала в человеческий рост, на каждом ее стебле красовались початки, из макушек которых высовывались розовые кисточки. На горных склонах цвели фасоль, соя, горох, картошка, и их красные, белые, желтые, голубые цветы как будто вспыхивали среди безбрежного зеленого моря. Крестьяне уже дважды пропололи свои посевы, недавно прошел благодатный дождь, поэтому никаких признаков засухи не было видно: напротив, вся зелень выглядела влажной, сочной, крепкой и вселяла в людей чувство радости и покоя.
Цзялинь шел легко, отбросив свои печали, молодая кровь играла. Он сорвал розовый цветок ветреницы и, крутя его в руках, миновал капустное поле, подошел к заводи. Здесь он быстро разделся, забрался на скалу, выглядывавшую из воды, и присел на корточки. Его тело было стройным, крепким, натренированным физкультурой. Кожа немного смуглая, нос крупный, глаза большие, карие, брови слегка изогнутые, как две сабли, волосы пышные, будто специально взбитые. Особенно хорош был Цзялинь, когда задумывался и хмурился – в эти минуты он становился настоящим образчиком притягательной мужской красоты.
Классическим спортивным прыжком он прыгнул со скалы, описал в воздухе красивую дугу и без малейшего плеска ушел в воду. Он долго плавал разными стилями, потом вылез на мелководье, вымылся с мылом и голым улегся на скале под персиковым деревом. Это дерево посадил старый холостяк Дэшунь, который частенько срывал с него персики и раздавал их деревенским ребятишкам.