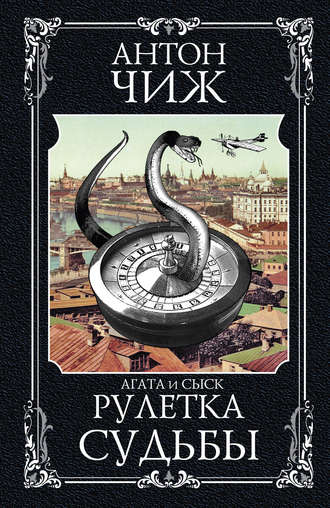
Полная версия
Рулетка судьбы
– Когда умерла мадам? – спросила Рузо.
– Ночью первого января…
– Тогда… Тогда оглашение завещания на третий день, завтра…
Кажется, в кончине Анны Васильевны всех интересовало только завещание. Было чего ждать. Если открыть стенной сейф.
Спросив, может ли она быть свободной, Рузо быстро ушла.
У двери Прокопий прилаживал навесной замок. Ключ Пушкин просил занести ему в сыск, а не в участок. Дворник обещал исполнить в точности.
Он вышел на Большую Молчановку. Подбежал городовой, спросил, не будет ли каких приказаний. Видно, пристав дал команду: оказывать сыску любую помощь. Как, однако, Нефедьев испугался цифр в письмах – и как невнимательно их изучил.
Пушкин настрого приказал брать любого, кто появится около дома Терновской, и вести в участок. Невзирая на крики и жалобы. Чем бы ни угрожали – хватать и тащить. Ничего не бояться, все последствия и жалобы берет на себя. И сменщику передать. Городовой козырнул.
По порядку розыска надо было наведаться в дом напротив, чтобы расспросить экономку. Но фигура за деревом манила куда сильнее. Следовало выяснить, кто эта настойчивая дама, что не боится отморозить ножки.
16Побывать в Москве и не отобедать в трактире Тестова – преступление. Таких блинов, молочных поросят, расстегаев и томленых щей больше нигде не отведать. На всю жизнь великая память. А вот в трактир Мясоедова на Лубянке лучше не заглядывать. Без кошелька, часов и цепочки можно остаться. Трактир темен, пол залит слоем жира, по которому снуют нечесаные половые, а подают такую дрянь, что доброму человеку и в рот брать не стоит. Пиво кислое, про другие напитки лучше не знать. Чай, да и тот второй заварки. Зато чужих здесь не бывает. Только свои, кому не застолье важно, а чтоб полиция не заглядывала.
Выйдя на свободу, Катя Гузова прямиком побежала на Лубянку, в трактир. Женщин сюда не пускали, но ей вход был открыт – знали, чья деваха. В полутьме Катя нашла стол, за которым сидел мужчина невысокого роста, коренастый, с сильными плечами, в приличном костюме-тройке. Перед ним стояла кружка бледно-желтого пойла. Катя схватила ее и сделала несколько жадных глотков. Мужчина жевал вяленого снетка, выражая безразличие. Катя отерла пену рукавом, шлепнула кружкой об стол и села напротив.
– Ну как улов? – бесцветно спросил он.
– А вот так… – тут Катя разразилась бранью.
Коренастый слушал рулады, не переставая жевать. Пока бабьи причитания его не притомили.
– Амба мельтешить. – Он легонько пристукнул краем ладони по столу, Катя сразу затихла. – По делу говори…
– А по делу, выходит обида большая, Меток, – сказал она, обращаясь по воровской кличке.
– В чем обида?
Тут уж Катя в красках рассказала, как наметила вещицу, взяла ее чисто, да тут откуда ни возьмись объявилась мамзель распрекрасная, под дых ей дала и в сыск с городовым отвезла. Хорошо хоть отпустили…
Меток нахмурился.
– Как, говоришь, ее называли?
– Штоль или Шталь, фон какая-то… – ответила Катя. И тут же получила легкую затрещину.
– За что? – обиженно спросила она, поглаживая затылок.
– Дура ты, Катька, расписная, ничего не поняла. Знаешь, с кем тебя счастье свело? Ничего ты не знаешь, бедовая. Так вот слушай… – сказал Меток, поманив к себе.
Катя приложила ухо. Меток стал быстро шептать, дыша кислым пивом. Закончив, оттолкнул, чтоб место знала. Теперь Катя поняла, какую ошибку совершила.
– Что же мне теперь, ей в ножки поклониться? – спросила она.
– И поклонись, и прощения попроси. И проси, чтобы к нашему делу снизошла. А тебя, дуру, уму-разуму научила… С ней много чего суметь можно… Все, сгинь. – И Меток отмахнулся.
Катя цапнула с тарелки снетка – с утра ведь ничего не евши – и пошла прочь, жуя рыбку и размазывая слезы с ваксой от потекших ресниц. Думала, Меток за нее заступится, проучит как следует. А вместо того еще и виноватой оказалась. Нет воровке счастья… Хоть в прачки подавайся.
17Дама замерзала, так что нос и руки превратились в ледышку. Хуже того: сердиться было не на кого. Сама устроила авантюру. Но ведь и представить нельзя, что выслеживать кого-то в зимнем городе – сущая каторга.
Поначалу было весело. Она стояла за деревом, невидимая и незаметная, наблюдая. Пытка началась, когда объект ее интереса скрылся в доме и не думал показаться. Мороз взялся за дело. Стоять, не двигаясь, можно в валенках, недаром городовые их надевают. А в ботиночках ножки быстро сковали ледяные кандалы. Дама притоптывала и прыгала, но не согревалась, а промерзала сильней. Не помогали ни муфта, ни варежки, ни беличий полушубок с шапочкой. Она перестала ощущать тело, только холод и холод во всех членах. Еще немного – бросит и убежит. Сил нет терпеть.
Когда она готова была сдаться, господин в черном пальто неторопливо вышел из ворот, бессовестно поболтал с городовым и небрежной походкой, будто ему и дела нет, направился по улице. Пора было оставить укрытие. Кое-как перебравшись через сугроб, она перебежала на другую сторону и пошла за ним, пока еще сохраняя расстояние. Надо было принять важное решение: как появиться? Нельзя же просто так наброситься со спины. Хотя очень хочется. Надо постараться появиться, будто ниоткуда, вырасти из-под земли. Эффектно и красиво. Выдумывать она еще могла, но сил осталось только на то, чтобы идти следом.
Господин свернул в Борисоглебский переулок. Дама заторопилась, чтобы не потерять его из виду, зная, что арбатские улочки умеют петлять. Обогнув угловой дом с палисадником, она оказалась в пустом переулке. Не так чтобы совсем пустом – сугробы и одинокий прохожий виднелись. Не было того, ради которого приняты морозные муки. Как будто растворился в воздухе. Оставалось одно: бежать вперед. Быть может, он успел так далеко уйти. И она побежала. Только добежав до Поварской улицы, окончательно поняла бесполезность усилий. Там его не было. Да и быть не могло.
Уставшая и обиженная, чуть не плача от досады, прикрывая варежкой отмороженный носик, дама повернула обратно. Дорогу преградило что-то большое и черное. Она отпрянула.
– В филера изволите играть?
Совсем не так мечтала она об этой встрече.
Как часто наши фантазии и мечты, такие близкие, такие яркие, такие доступные, что только руку протяни, вдруг улетают дымом, рассыпаются от пустяка, о котором и подумать невозможно. Как будто жизнь, не спрашивая наших желаний, безразличная к слезам, поступает с нами по своему усмотрению и непонятной воле. Не получился маскарад с ямщиком, подаренная воровка досталась другим. Бесценные мгновения, на которые она так рассчитывала, были потеряны. Потеряны окончательно. Все завершилось как нельзя плохо. Не то что радости не увидела в его лице, напротив: наградой ей был мерзкий, наглый, холодный тон. Холоднее мороза.
– Здравствуйте, господин Пушкин, – проговорила она, чувствуя, что под варежкой нос отогрелся и пустил жидкость. Только соплей не хватало в такой момент. И так хуже некуда.
– Что вы делаете в Москве?
Откуда такое умение быть гадким и бесчувственным? Ни один мужчина, видя, что она замерзает, не посмел бы играть ледяную статую. Без сердца и сострадания.
– Приехала праздновать Святки.
– Обещали мне уехать…
Она выжала варежкой нос, тут уж не до приличий, и грубо втянула воздух. Раз ему все равно, что она сейчас умрет от холода. И отсутствия теплоты.
– Обещание выполнено. Я уехала…
– Дали слово не возвращаться в Москву…
Какая невозможная жестокость. Неужели не видит, что она сейчас упадет в снег, в сугроб, в лед. Неужели у него в самом деле холодное сердце? Нельзя поддаваться мечтам, вот чем они кончаются.
– Слово имело силу для прошлого года. А теперь – новый…
– Вы на ходу меняете правила игры…
– Это вы их меняете, Пушкин! – в отчаянии прикрикнула она и топнула ножкой.
– Хорошо же, госпожа Керн… – проговорил он с мерзким угрожающим спокойствием.
– Меня зовут Агата! – сдерживая льющиеся слезы и сопли, выдохнула она.
– Как вам будет угодно… Агата Керн…
– Просто Агата, господин полицейский!
– Простите… Агата… Вернемся к нашему вопросу…
Нет, он не шутил, он начисто лишен человеческого сострадания. Неужели полиция так увечит мужчин? Перед глазами Агаты поплыл переулок, она была вынуждена вцепиться в рукав его пальто, чтобы не упасть. Пушкин не шелохнулся. Как будто ему и дела нет до ее страданий.
– Так вот, Агата, – нарочно выделил он имя, – в нашем договоре было важное уточнение: никогда. Никогда не возвращаться в Москву…
– Никогда не говорите «никогда», Пушкин, – чуть слышно пробормотала она. Холод притупил чувства, ей уже было все равно.
– Как прикажете это понимать?
Агата вдруг поняла, что если сейчас свалится и околеет у него на глазах, Пушкин, пожалуй, ткнет в нее ботинком, свистнет городового и забудет, что такая была. Уже забыл, как видно…
– Как понимать? Понимайте, что вы – черствый сухарь…
Логика и эмоции – две вещи несовместные. Пушкин давно знал, что женщинам можно приводить аргументы до тех пор, пока аргументы не кончатся у них. После чего женщины ломают логику и поступают по своему усмотрению. Впрочем, сейчас аргументы кончились у него. Он так обрадовался и растерялся, поймав Агату, что не знал, как себя вести. Может, предложить руку? Стояла она немного нетвердо…
– Это нелогичный тезис, – брякнул он, понимая, какую глупость сморозил. Да, сморозил на морозе, как сказали бы в книжонках, какие любит его тетушка.
Агата держалась из последних сил. Ей было дурно, без шуток.
– Пушкин, вы нашли мой подарок? – чуть слышно спросила она.
– Какой подарок?
– Вот в этом… Кармане пальто… У вас появился…
Сунув руку, Пушкин пошарил в шерстяном пространстве.
– Ничего нет, – сказал он. – Вероятно, выпал, когда вытряхивал сегодня пальто. Наверняка лежит в сугробе в Гнездниковском. Если дворник не подобрал.
– Мой подарок? – Агата уже плохо различала дома и Пушкина, перед глазами все превратилось в белесое пятно. – Вытряхнули… В сугробе… Дворник подобрал…
Он успел подставить руки. Агата рухнула, закатив глаза. Подхватив ее тело и проклиная себя за мальчишество, Пушкин побежал к Поварской, где должен быть извозчик. Она лежала, уткнувшись в его плечо. Показалось, что Агата в самом деле умерла, так промерзла одежда. На бегу он крикнул извозчика, который, на счастье, торчал у аптеки.
Сани подлетели, ванька расторопно откинул медвежью полость, Пушкин бережно уложил ее на толстый ковер и укутал по горло, подоткнув подушками. Он прикрикнул, чтоб скорее вез обмороженную в лечебницу, но Агата открыла глаза.
– Благодарю вас, – произнесла слабым голосом. – Не надо больницы… Мне уже лучше. Едем в «Лоскутную». У меня важная новость для вас, – и блаженно улыбнулась.
Чиновнику сыска оставалось гадать: а был ли обморок?
18В тепле цветок расправил лепесточки. Кто бы мог подумать, что бодрая дама, вошедшая в зал ресторана, четверть часа назад почти не подавала признаков жизни. Официант поздоровался и проводил за столик, который предпочитала мадемуазель, оставил меню и обещал вернуться. Обедать Пушкин не собирался. Раз уж оказался в «Лоскутной», надо исполнить обещание, данное любимой тетушке. Эфенбах знает, что он при деле в Арбатской части, можно бездарно потратить немного служебного времени.
– Вернулись с новым цветом волос, мадемуазель Бланш, – сказал он, отодвигая соблазнительное меню подальше.
Страницы Агата листала довольно невнимательно.
– Вам нравится? – спросила она.
Что могло относиться и к прическе, и к имени, и к набору блюд. Женщины склонны смешивать раздельное и соединять невозможное.
– Огненной брюнеткой вы стали слишком заметны.
От Пушкина это можно было считать комплиментом. Агата так и посчитала. Ничего другого ей не оставалось.
– Заказывайте, что желаете. Я угощаю… Отметим нашу случайную встречу…
Бесполезно указывать на явное противоречие: подарок в пальто с последующей слежкой на морозе случайностью назвать нельзя. К тому же он еще не забыл, чем кончались приглашения Агаты отобедать за ее счет. Платил почему-то всегда Пушкин.
– У меня крайне мало времени. Прошу сообщить, что желали…
– В самом деле потеряли мой подарок? – Она смотрела на него поверх меню, как охотник выслеживает утку в камышах.
– Не беру подарки от воровок, – ответил он. – Даже гениальных. Чиновнику полиции это невозможно.
Старательно улыбаясь, Агата пропустила обиду мимо ушей.
– Я не воровка… Уже не воровка… Вы прекрасно знаете. У меня нет пути назад… – Она еще хотела добавить: «после сегодняшнего подарка», но промолчала. Подарок достался не ему.
– Рад слышать, но верится с трудом. Ближе к делу, прошу вас. – И он посмотрел на карманные часы.
Захлопнув меню и мотнув головой официанту, который собрался подбежать за заказом, Агата сложила руки.
– Как прикажете, господин полицейский, – сказала она бархатным голоском.
У Пушкина забегали мурашки по спине. С чего бы вдруг?
– Знаете ли вы, что в Москве открыли рулетку?
– Нам это известно.
– В большом доме на Спиридоновской…
– Местонахождение известно. Это все, что имеете сообщить?
– В ночь на первое января заглянула, чтобы развеять скуку и поставить по маленькой, – продолжила Агата, наблюдая за каменным лицом Пушкина.
– Играет в азартные игры или глупец, или шулер.
– Одна дама, судя по виду – из московских купчих, – продолжила она, – взяла и в четыре удара обыграла рулетку, получив невероятную, фантастическую сумму…
Был выбор: заявить, что сыскной полиции все известно, или выслушать неожиданного свидетеля. Грош цена ее показаниям, конечно. Но все же…
– Неужели тысячу рублей? – спросил Пушкин.
Кажется, наживку заглотил. Агата была довольна.
– Берите выше!
– Что, две тысячи?
– Холодно, холодно! – она невольно вздрогнула. – Что подскажет ваша разнузданная фантазия?
– Неужели десять тысяч? – старательно изумляясь, спросил он.
Агата счастливо засмеялась.
– Ах, Пушкин, у вас фантазии чиновника. Мадам выиграла сто двадцать тысяч!
Требовалась пауза, чтобы пережить такой шок. Пушкин помолчал.
– Ей заплатили всю сумму?
– Крупье выгреб банк…
– Бывают чудеса в Москве. Какое дело сыскной полиции до такого везения?
– Ее собираются убить, – торжествуя, закончила Агата.
– Такое заявление требует серьезного обоснования, – сказал Пушкин. – Какие у вас факты?
Она поморщилась.
– У меня чутье, которое никогда не подводит. И сердце. Я знаю и вижу людей. Особенно мужчин. Кажется, я это доказала… В прошлом, разумеется…
– Будьте добры, факты…
– Около нее крутилось двое мужчин. Один не старше двадцати пяти, такой мерзкий, как зазнавшийся приказчик. Другой солидный и вальяжный, далеко за пятьдесят. Сначала умоляли даму не ставить деньги, а потом чуть не вырывали у нее из рук купюры. Правда, она отогнала их, как мошек… Дама строгая и суровая, сразу видно…
– Это все факты?
Агата не могла обижаться.
– Нет, не все, господин, сыщик, – ответила она с вызовом. – Рядом с ней крутилась девица, похожая на селедку. Всё советы давала, возмущалась, как делает ставки, по блокнотику что-то проверяла. А когда та выиграла, селедка чуть не лопнула от возмущения. Знаете, кто она?
Пушкин уже знал. Надо было позволить Агате нанести победный удар. Что она и сделала:
– Та самая девица, с виду курсистка, которую сначала гнали по сугробам, потом помогли встать и отвели в дом. Когда я мерзла под деревом…
В наблюдательности Агате нельзя было отказать. Особенно в навешивании ярлыков. Нельзя отрицать, что в барышне Рузо есть что-то от холодной селедки.
– Итог: двое мужчин и барышня, – сказал Пушкин. – В чем ваше обвинение?
– Уверена: кто-то из них намерен прикончить родственницу и забрать выигрыш… – ответила Агата. – Такие жадные, алчные и скользкие типы.
– Откуда известно, что они родственники?
– Юный прыщ называл ее тетушкой, а старый ловелас Аннушкой. Этого малого?
– Для обвинения в убийстве – да.
Наблюдения кончились. Агата старательно искала, что бы еще припомнить.
– Помяните мое слово: они ее прикончат, – сказала она.
– Видели, как эти господа сопровождали даму с рулетки?
– Нет, я ушла немного раньше… Но это ничего не меняет!
Формально Пушкин не имел права раскрывать никакие подробности посторонней. Но в данном случае Агата Керн была уже не посторонней, а свидетелем. Что меняло дело.
– Терновская Анна Васильевна скончалась в ту же ночь на первое января. У вас есть еще что-то, что можете сообщить по данному обстоятельству?
Когда смысл сказанного дошел в полной мере, Агата с трудом удержалась, чтоб не вскочить и не влепить наглому обманщику пощечину. Она перед ним карты выкладывает, можно сказать – душу наизнанку выворачивает, а он, оказывается, уже все знал? Как относиться после такого к мужчинам?..
Но ей хватило благоразумия.
– Убита, – проговорила Агата, как будто знала. – Какая мерзость: убивать женщину.
– А мужчину? – спросил Пушкин.
– Мужчины играют со смертью, мужчины убивают, что вас жалеть… А убийство женщины… Это противно человеческой натуре… Женщин убивать нельзя… – она хлопнула по столу так, что официант направился принять заказ. – Я выведу убийцу на чистую воду… Моя личная месть негодяям…
– Госпожа Керн… Агата, – поправился Пушкин. – Напоминаю, что никакое частное лицо не должно заниматься полицейским розыском. Запрещено законом. В случае нарушения – арест.
– Помогать сыскной полиции закон не запрещает?
Пушкин пробурчал нечто невнятное.
– Только помощь, ничего, кроме помощи, – сказала Агата. – Как помогает свидетель. Я так люблю давать показания полиции… Снимете с меня… показания? Вы же примете мою помощь? Это же совсем не то, что выбрасывать подарки от воровки… Кстати, покажите ваш блокнот.
– Зачем?
– Хочу взглянуть на вашу хваленую формулу сыска. Наверняка уже составили?
Раз мадемуазель настаивает…
Вынув блокнот, Пушкин стянул резинку и показал чистый лист. Агата склонила голову к плечу, будто хотела заглянуть между страницами.
– У вас же были рисунки… Мои рисунки… Где они?
Какая наблюдательность. Пушкин спрятал блокнот.
– Ненужные листы удаляю, – сказал он.
– Разумеется, зачем их держать, – согласилась Агата с тихой улыбкой.
Нельзя больше испытывать судьбу. По тому, как она держит край сервировочной тарелки, Пушкин догадывался, что блюдо сейчас прилетит ему в голову. А за ним и все, что есть на столе. Посуду ресторана следовало поберечь. Он резво встал.
– Прошу не предпринимать без моего ведома никаких действий, – и, поклонившись, быстро пошел к выходу.
Тарелка все еще могла ударить ему в спину. Пушкину повезло. Он перешел в холл гостиницы и направился к портье. Можно держать пари: Агата будет следить. Ставка настолько верная, что выигрыш гарантирован. Жаль, никто не собирался ставить.
19Служба городового не так чтобы легка. Тяжкая это служба, безмерно тяжкая. На посту по двенадцать часов в любую погоду. Проживание в казарме, жалованье крохотное, да еще сам покупай сапоги и обмундирование. А коли не хочешь, так предоставят и сапоги, и шинель, да только вычтут из жалованья. Хорошо, если в квартале лавки. Купцы городовых балуют – кто съестное преподнесет, а кто отрез ткани. Чем торгуют, тем и делятся. Чтобы ночью присматривали, а если какое безобразие в лавке случится, пришли с подмогой. Городовые, конечно, и так порядок блюсти обязаны. Но ведь когда городовой из твоей лавки сыт – куда надежнее.
Хуже, когда в квартале жилые дома. Тут уж прибыток куда скромнее. А в Арбатской части и подавно. Домишки небольшие, живут которым поколением. Так что если на Рождество или Пасху поднесут рубль, на том спасибо. Большая Молчановка была такой вот невыгодной улицей.
Городовой Оборин топтался на морозе, и деваться ему было некуда. Разве что из конца в конец улицу пройти. Приказ чиновника сыска помнил и поглядывал за домом Терновской. Вот только никто в него не совался. Дворник Прокопий как замок навесил, так и отправился в сторожку греться. Звал с собой, да городовой не рискнул уйти с поста. В спокойный день, конечно, позволительно, а когда происшествие свежо, лучше быть на страже.
Быстро стемнело. Фонарей на Большой Молчановке было два, да и те газовые. Света от них, как от керосиновой лампы. Улица растворилась в черноте. Только сугробы белеют да окна светятся. Теплом манят. Со звонницы долетели удары колокола. Шесть часов… До конца смены еще стоять и стоять.
По другой стороне тротуара быстро шел господин. В темноте Оборин не мог толком разобрать, что за человек, но по манере держаться сразу видно: непростой. Важной птицей себя держит, тросточкой помахивает. Городовой стал посматривать. Господин вел себя немного странно: часто оглядывался, будто опасался погони. У ворот Терновской задержался, вроде собираясь зайти, затем двинулся к окнам, приник к третьему, стал выглядывать. Но не постучался, а направился назад и скрылся за каменным проемом.
Долго не размышляя, Оборин перешел улицу и вошел во двор дома. Господин стоял на крылечке и старался открыть навесной замок, тихо ругаясь. В темноте было заметно, как он торопится.
Городовой внушительно кашлянул. Господин вздрогнул и посмотрел, откуда звук. Оборин легонько отдал честь.
– Прощения просим, – сказал он. – Извольте сойти и следовать за мной в участок.
Бросив замок и торопливо сунув ключ в карман, господин принял самую независимую, если не сказать возвышенную позу. Что на крылечке получалось особенно удачно.
– В чем дело? – строго спросил он.
– Приказано доставлять в участок…
– С какой стати?
– Там объяснят, прошу следовать. – и Оборин сделал шаг вперед.
На крыльце деваться было некуда. Господин вжался в дверь.
– Что вы себе позволяете? Что за полицейский произвол? Да вы знаете, с кем имеете дело? Я с самим главой городской управы Александровым знаком! Это что еще за глупости!
Угроз и стращаний городовой наслушался достаточно. Каждая шишка норовит над ним свою власть показать. Оборин выразительно поправил шашку на боку.
– Извольте выполнять приказание полиции, – с явной угрозой сказал он.
Господин помахал палочкой.
– Ишь какой! Беззаконие! Хамство! Наглость! Я не позволю…
Вопли его звучали беспомощно.
– Подобру прошу, господин, идти в участок… Будьте разумны.
Вместо этого господин повел себя крайне неразумно.
– Помогите! Полиция! – вдруг закричал тонким го-лоском.
С Оборина было достаточно. Расстегнув кобуру, он достал револьвер и приподнял, насколько позволял шнурок, привязанный к рукоятке оружия и обвивавший шею городового. Стрелять он, конечно, не собирался, незачем поднимать переполох в тихом квартале. Пугнуть как следует… Угроза подействовала. Господин смолк, прижимая к груди тросточку.
– Прошу в участок, – сказал Оборин, указывая стволом на ворота.
Повторять не пришлось. Господин покорно сошел с крыльца и последовал на улицу. И даже не делал попыток сбежать. Так и шел под дулом до Арбатского дома.
Оборин был доволен, что ловко справился. Легонько толкнув в спину, завел пойманного в приемное отделение.
Поручик Трашантый как раз потчевал себя вечерним чаем. Явление городового с господином приличного, а не преступного вида не входило в его планы на вечер.
– Это что еще такое? – спросил поручик с откровенным раздражением.
– Выполнил указание сыскной полиции, – сказал Оборин, пряча револьвер. – Задерживать всех, кто явится в дом мадам Терновской.
Тут Трашантый вспомнил, что сам пристав требовал от каждого городового, кто дежурит на Большой Молчановке, полной бдительности. И сразу сменил тон.
– Молодец, Оборин, примерно службу несешь! Продолжай в том же духе…
Городовой довольно козырнул.
– Рады стараться, ваш бродь… Этого в загон или в сибирку?[27]
Трашантый присмотрелся к задержанному: на вид солидный, состоятельный господин. Наверняка невиновен. Будет потом жалобы строчить, одна головная боль. Пусть тот разбирается, кому это нужно. А участок не вмешивает.
– Вот что, Оборин… Веди-ка задержанного прямиком в сыск.
Новость была не из приятных. Хоть Малый Гнездниковский недалеко, но тащиться со скандальным субъектом по городу… Опять под дулом вести?
– Да как же… – только начал городовой.
– Не рассуждай, а выполняй! – приказал Трашантый. – Веди в сыск!
– Ужас! Я буду жаловаться! Я с прокурором в карты играю!
Под эти и прочие грозные крики Оборин вывел пойманного из участка. Правда, обошлось без револьвера. А Трашантый убедился, что поступил правильно: устроит господин с тросточкой неприятности. Такой может, одно пальто рублей сто стоит.
Он вернулся к чаю. Но этим вечером не суждено ему было насладиться покоем. В приемном отделении появилась девушка в скромном пальтишке, замотанная в платок. Трашантый узнал ее: экономка старухи, что снимает особняк, Агапой, кажется, зовут…













