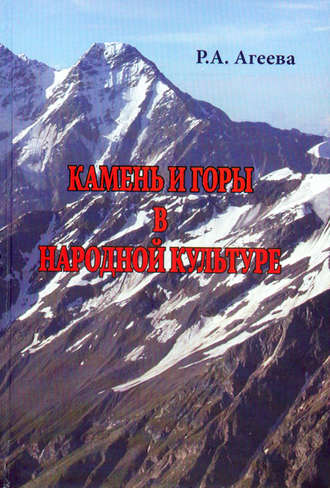
Полная версия
Камень и горы в народной культуре
Приведём пример из работ о связи топонимики и географии населения. Работы по исторической географии России начались в конце XVIII и начале XIX в. (В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов, Н.М. Карамзин, А.В. Востоков и др.). Впервые на топонимический материал как на средство решения историко-географических вопросов определённо указал Н.И. Надеждин, который считал, что достаточно определить язык географического названия, чтобы узнать, какой народ жил на данной территории [Надеждин, 1837]. Впоследствии метод Н.И. Надеждина был усовершенствован и дополнен другими исследователями XIX и XX вв. Твёрдо был установлен тот факт, что территория обитания того или иного народа как в настоящем, так и в прошлом может быть определена с помощью топонимических ареалов.
Большое количество публикаций по различным темам географии в связи с топонимическими данными было издано в нашей стране начиная с 60-х годов ХХ в. и вплоть до настоящего времени. Книги, сборники статей и аналитических обзоров издавались в Географическом обществе СССР (ныне Русское географическое общество), в Институте языкознания, Институте востоковедения РАН и других научных учреждениях в разных городах республик СССР и в России. Стоит упомянуть и фундаментальный и потому бесценный трёхтомный библиографический справочник “Ономастика. Указатель литературы (за 1963–1980 гг., с приложением за 1918–1962 гг.”), подготовленный коллективом авторов ИНИОН (Институт научной информации по общественным наукам РАН).
Списки сборников, изданных в серии “Вопросы географии” и отдельно изданных сборников РГО, посвящённых топонимическим проблемам, см. в конце Введения после основного списка цитируемой в тексте Введения литературы.
Ономастика и история«Изучение имён в историческом плане, помимо чисто языкового, представляет большой научно-познавательный интерес. Особенно интересны те случаи, когда языковые данные могут быть сопоставлены с историческими, этнографическими, антропологическими, когда они могут свидетельствовать о межнациональных контактах, о смене формаций и т. п.» [Суперанская, 1977: 26].
Довольно трудно говорить о роли ономастики по отдельности в таких науках, как история, этнография и фольклористика. Все они тесно связаны между собой, а также с географией и лингвистикой. Ведь существуют такие пограничные разделы, как историческая география, этническая история или фольклор в системе этнолингвистики.
Тем не менее попытаемся привести некоторые примеры, характеризующие роль собственных имён в упомянутых отраслях науки.
Антропонимы могут сказать многое об особенностях разных исторических эпох, поскольку круг собственных имён у какого-либо народа отличается значительной устойчивостью и традиционностью. Но восприятие имён в каждой эпохе разное, как и социальная оценка типов имён и мотивировка их употребления. От наследственных родовых имён, передающихся по женской линии, был в период патриархата переход имени родоначальника на всех членов рода; личные имена (у православных христиан ещё и прозвищные) подчинялись определённым традициям именования; отчества у русских носили сословный характер до XVI в., в XVII в. стали обязательны для всех; фамилии возникли ещё позже и т. д.
Пример из древней эпиграфики: в 1978 г. во время археологических исследований одного из храмов Рима была найдена этрусская надпись на барельефной фигурке льва. В надписи в частности обнаружено слово tarχ (имя божества анатолийского происхождения), ставшее основой многих имён и названия города Тарквинии, а также имя Spurianas – архаическая форма более позднего этрусского имени Spurina. Люди с этим именем на протяжении нескольких веков занимали выдающееся положение в разных этрусских городах. Один из них Спурина был главой 12 этрусских полисов в конце V в. до н. э. В целом особенности написания имён позволяют предположить, что надпись была сделана в эпоху двуязычия в городе со смешанным этрусско-римским населением [Немировский, 1983].
Примером важности эпиграфики могут служить и валунные надгробия Верхневолжья: надписи на них являются источником по исторической ономастике эпохи Московской Руси XV–XVII вв., в частности дают материал по истории формирования русских фамилий, уточняют произношение собственных имён, их народную или церковнославянскую форму, а также дают сведения о сакральной топографии городов (названия церквей и монастырей) [Авдеев, 2015].
Археологи в особенности обращают внимание на ономастические данные: не только антропонимы, но и топонимы, среди которых выделяют в первую очередь гидронимы. Так, изучение фракийской топонимии Фракии и Малой Азии позволило сделать вывод о пребывании фракийцев в доисторической Греции и о том, что предки греков пришли в Грецию с севера вслед за предками карийцев, а также части фракийцев и фригийцев [Откупщиков, 1984].
И ещё одно мнение археолога: уже о значении именно гидронимии (названий крупных рек и озёр): «Важнейшие вопросы этнической истории Восточной Европы не могут быть решены археологами без учёта данных гидронимики. Древние периоды истории племён, населявших лесную зону Восточной Европы, не получили отражения в памятниках письменности. Поэтому топонимика является единственным свидетельством языковой принадлежности той или иной группы древнего населения. Взаимодействие и взаимопомощь археологии и гидронимики необходимы и для изучения этногенеза и этногеографии Восточной Европы <…> В то же время археология может помочь лингвистике, т. к. она располагает надёжными средствами хронологии (для выявления стратиграфии гидронимических напластований) [Седов, 1966: 14–17].
Итак, как межотраслевая область, находящаяся на стыке различных дисциплин, гидронимика предоставляет ценный исследовательский материал специалистам самых различных профилей. С помощью данных гидронимики часто удаётся установить современные и реконструированные былые ареалы животных и растений, помочь в поисках полезных ископаемых. В исторических и историко-этнографических исследованиях гидронимика помогает установить древние пути сообщения, способы и особенности ведения хозяйства на изучаемой территории, этнический состав её населения. Сохранившиеся наиболее ранние названия рек и озёр нередко позволяют проверить исторические гипотезы о прародине, этногенезе и миграциях отдельных народов, о сменах населения на данной территории. Изучив же более поздние названия, можно проследить становление и развитие общественно-исторических отношений на всех этапах этнической истории. См. подробнее в [Агеева, 2012].
Относительно более поздних исторических названий можно привести много примеров внутригородских топонимов, говорящих об истории населённого пункта. Так, в городе Старая Русса Новгородской области (основан предположительно в XI в., первое упоминание в летописи в 1167 г.) названия улиц и площадей отражают русские личные имена и фамилии, прозвища, названия профессий, имена исторических деятелей, названия церквей и монастырей, сёл и деревень, вошедших в разное время в состав города, а также эргонимы – названия объектов инфраструктуры города начиная с древности и до современности [Горбаневский, Емельянова, 2004: 13].
Ономастика и этнографияО роли собственных имён в этнической истории, то есть в истории народов, уже рассказано в предыдущем разделе. То же самое относится и к этнографии, главный предмет которой – изучение этногенеза (происхождение народа и его прародина) и этнической истории (этапы развития, территория обитания, миграции, материальная и духовная культура, контакты с другими народами и т. д.). Здесь рассмотрим такие понятия, как этнонимы, этноантропонимы, этнотопонимы и этнолингвистика.
Этноним – это название любого народа (самоназвание или имя, под которым его знают другие народы мира). Например, финны называют себя suomalaiset, а свою страну Suomi. Название же финны, известное в древних источниках с 1 в. н. э., пришло из германских языков, что неудивительно: прибалтийско-финские племена тесно контактировали с германцами (скандинавами). Но вначале название финны относилось к саамам (лопарям) и, возможно, имело значение ‘охотники'.
В научной литературе дискутировался вопрос о том, являются ли этнонимы именами собственными или нарицательными. Подробный анализ этой темы см. в нашей обзорной статье [Агеева, 2011]. Отметим, что вопрос этот исключительно касается лингвистики и логики и не имеет большого значения для историков и этнографов. В данном случае мы занимаем компромиссную позицию: если народ русь, русичи рассматривается как множество людей одной этнической принадлежности, то есть имеется в виду класс лиц по определённому признаку, то эти слова – нарицательные имена. Если же русь рассматривается как народ в целом (условно говоря: “коллективный индивид”), то это собственное имя, тем более что оно совпадает с хоронимом Русь – обозначением государства, этнической территории (которое без сомнения является собственным именем). При этом не имеет значения, пишется ли этноним со строчной (русь) или прописной (Русь) буквы, правила орфографии здесь по сути ничего не определяют.
Этнонимы традиционно рассматриваются исключительно как наименования этнических общностей (начиная с племени); иногда затрагивается и другая категория имён – родовые названия (генонимы).
Этноантропоним – прозвищное личное имя или фамилия, образованные от этнонима. Они могут указывать на происхождение (страна, местность) или национальность человека. Примеры из русского языка: личные имена Козарин, Чудин, фамилии Скиф, Халдей, Коряк, Французов, Молдовский и др. Примеры из осетинского языка: личные имена Франц, Герман, Япон, Гуырдзы (от слов Грузия, грузины), Алан, Сæрмæт (от названий осетинских племён) и др.
Этнотопоним – топоним (географическое имя), образованный от этнонима. Этнотопонимы могут указывать на население (прежнее или современное) данной территории, ср. Чудское озеро – от этнонима чудь, Барабинские поля – по названию барабинских татар, город Сочи – от имени кабардинского племени соатше, Армянский переулок и Татарская улица в Москве, штаты в США Алабама, Дакота, Канзас, Мичиган и др. – от индейских этнонимов и т. д.
Многие этнотопонимы действительно отражают наличие в прошлом или настоящем соответствующего населения. Однако в интерпретации таких названий следует проявлять осторожность и проверять свои выводы документально. Этнотопонимы могут быть поздними, мемориальными, символическими, а также ложными, не относимыми к соответствующим народам. Если собрать все географические имена Русского Севера, в которых встречается слово весь, то можно заподозрить в них отражение названия древнего прибалтийско-финского племени весь (предки современных вепсов). Ареал этого племени, по данным этнотопонимов, получится неправдоподобно огромным, не подкрепляемым археологически. Между тем в древнерусском языке было – и в современных русских говорах сохраняется – слово весь в значении ‘селение, деревня'. Употребление слова весь в этом значении в составе географических названий вполне естественно.
ЭтнолингвистикаЭто особенное направление, сложившееся в отечественной науке приблизительно к началу 80-х годов ХХ в., связанное в первую очередь с именем академика Н.И. Толстого, а также с именами его коллег и последователей. Направление этнолингвистики представлено прежде всего работами в области славянской этнографии и славянского языкознания; в основном ареал исследований – Белорусское и Украинское Полесье. Цель этнолингвистики – реконструкция материальной и духовной культуры народа; используются равным образом методы нескольких наук – лингвистики, этнографии и фольклористики. При этом исследователи изучают в первую очередь язык населения, исходя из следующего принципа: «Язык как зеркало народной культуры, народной психологии и философии, во многих случаях как единственный источник истории народа и его духа давно воспринимался таковым и использовался культурологами, мифологами в их разысканиях» [Толстой, 1995: 15].
Ономастический материал занимает большое место в этом направлении и отражён в публикациях словарей, книг и сборников статей.
В записях полесских экспедиций встречаются и мифологические персонажи (Белобог, Чернобог, Мокошь, Велес, Перун), и имена святых (св. Варвара, св. Герман, Иоанн Креститель, св. Пантелеймон и др.). Среди обычных антропонимов есть имя Иван в применении к аисту, который почитался полешуками (и хорватами): Иван-аист. Согласно старинным поверьям, аист был когда-то человеком, получившим птичий облик в наказание за непослушание. Возможно, аист связан со стихией воды и поэтому с днём Ивана Купалы (по церковному календарю День Рождества св. Иоанна Крестителя). В разных населённых пунктах Полесья могут быть другие имена для аиста: Василь, Максим, Микита, Василь-Василёк, Симон [Там же: 359, 362].
Для славянских обрядов и поверий характерна персонификация времён года, праздников. Так, в восточнославянском обряде проводов весны времена года называются по именам святых: два Юрия – Егорий (Юрий) холодный и Егорий (Юрий) голодный; два Николы – Никола морозный и Никола травный; Микола зимний и Микола летний и т. п. [Гусев, 1988: 197]. В праздник Масленицы и Мясопуста совершался древний обряд, забытый со временем (о мрачном божестве) и воспринимаемый как олицетворение божества: у русских делали обрядовое чучело Масленицы, в Силезии (Польша) девушки делали куклу Мажану и ходили с ней по деревне, а в понедельник сжигали или топили её. В конце праздника поляки судили и казнили Мясопуста, чехи хоронили его, хорваты и словенцы тоже уничтожали Пуста, олицетворявшего карнавал: топили, сжигали, расстреливали его, иногда судили [Соколова, 1978: 55–56]. Олицетворялись даже некоторые болезни, в частности скота: Коровья Смерть (Чёрная смерть), которая мыслилась в образе кошки или собаки, особенно чёрной. После обряда опахиванья деревни часто умерщвляли такое животное [Журавлёв, 1978: 74–75].
Ономастика и мифологияМифы без имён практически неизвестны. Мифологические имена – единственный источник, на основании которого можно судить обо всей мифологической системе. Мифопоэтическое сознание понимает имя как некую внутреннюю (глубинную) сущность человека, отражаемую в самом имени и вкладываемую человеку (или угадываемую) при наречении именем новорождённого [Топоров, 1993: 81].
В первую очередь в мифологии имеют значение теонимы (имена божеств); в древнерусском пантеоне: Дажьбог, Стрибог, Сварог, Хорс, Симаргл, Див, Перун, Велес; почти все эти имена упоминаются в “Слове о полку Игореве”. У теонимов (как и личных имён других мифических персонажей) может быть и другая функция: например, изучение мифонимов в древних языках (этрусский, хеттский, предшествующий ему хаттский) помогает сравнительно-историческому языкознанию – в частности установлению родственных связей северокавказских языков [Иванов, 1983: 42, 44].
Свои имена могут иметь и демонические персонажи, например имена лесных духов – помощников лешего (с чётко выраженной “специализацией”): Травник, Листов, Коренич, Орешник, Грибник, Ягодник и т. д. [Миролюбов, 1995: 48]. Даже зоонимы могут быть связаны с мифологией, ср. народные украинские клички коров Туча, Хмара, Гроза, Райдуга, где видна мифологическая связь молока и небесной влаги – дождя [Толстой, 1994: 8].
Многочисленны топонимы, отражающие мифологические представления различных эпох, потому что «окружающий мир человек вводит в контекст своей культуры и, давая наименования объектам географического ландшафта, не столько описывает его, сколько онтологизирует, осваивает. Поэтому топонимы должны сохранять следы как различных представлений о географическом пространстве, так и различных текстов, имеющих значение в процессах номинации» [Летова, 1982: 32–33]. Примеры из Архангельской области: Лешевая гора, Дивья гора, сенокос Упырь, Чёртово болото и т. п.
Другой пример: «Анализ типовых основ вепсской топонимии позволяет обнаружить мифологическую основу наименований некоторых животных в гидронимии (медведя, журавля, лебедя, лягушки). Выявляются и топонимные доказательства в пользу наложения определённых элементов мифологической карты мира (верхний и нижний мир, границы) на реальную карту местности, в частности водный бассейн» [Муллонен, 1991: 116].
Крупные исторические города могут иметь в своём составе мифологическое пространство, что связано с индивидуальным подходом к отдельным частям города в мифопоэтическом сознании населения в разные эпохи. В античности были понятия “гений места”, “гений города” или “дух города” (Genius loci → Genius urbis (Spiritus urbis). Этим и предопределяется “власть места” (в городе), его магическая сила. Например, с Вильнюсом связаны многочисленные мифы и легенды – в целом с городом и с отдельными урочищами, святилищами и иными зданиями (места Кальвария, Вифлеем и т. п. и связанные с ними обряды) [Топоров, 1980].
Ономастика и фольклористикаФольклористика – наука, тесно связанная с литературоведением, лингвистикой, этнографией и историей. Фольклор, то есть устное народное творчество, с одной стороны, имеет своим предметом искусство слова, с другой же стороны – это часть традиционной культуры. В фольклоре «сохраняются и передаются во времени элементы архаического мышления, эмпирические знания, мифологические представления о мире, религиозные воззрения, т. е. отражается идеологическая и познавательная сфера человеческой деятельности, так называемое интериорное общественное сознание» [Виноградова, 1989: 101–102].
Собственные имена всех категорий играют большую роль в фольклоре: теонимы, антропонимы, топонимы и др. Употребление собственных имён зависит от фольклорного жанра; среди них имеются как реальные, так и вымышленные названия. Так, например, при анализе материала “Смоленского этнографического сборника” [Добровольский, 1891–1903] обращает на себя внимание тот факт, что в нём почти полностью отсутствуют вымышленные географические названия. Единичные названия этого рода встречаются лишь в сильно мифологизованных текстах типа заговоров, апокрифов, духовных стихов. Все остальные топонимы – это реально существующие географические имена, но разница между жанрами заключается здесь именно в том, каким образом топонимы в них привязываются к соответствующим географическим объектам. Наиболее конкретная географическая локализация топонимов отмечается в быличках, исторических повестях и преданиях, в некоторых исторических, солдатских, чумацких и бытовых песнях. Меньшая степень конкретизации местоположения географических объектов наблюдается в сказках, а в пословицах и поговорках топонимы уже употребляются исключительно в поэтической функции; это касается ещё в большей степени обрядовых и необрядовых песен, любовных, бытовых песен, особенно в свадебном фольклоре, в колядных, егорьевских и других песнях. Наконец, в заговорах, апокрифических текстах и духовных стихах встречаются, как правило, топонимы библейского происхождения; некоторые из них обозначают реальные объекты.
Приведём некоторые конкретные примеры собственных имён в разных жанрах славянского фольклора.
В фольклоре могут упоминаться реальные исторические топонимы, но есть и искажённые названия типа былинных названий Латыгорка и Семигорка (т. е. названия древних латышских племён латгалы и земгалы).
В южнославянском эпосе, сложившемся во 2-й половине XIV в. (зарождение косовского цикла, известного в XVIII в.), упоминаются имена реальных средневековых властителей Сербского царства: Марко, Вукашин и др., которые затем стали эпическими героями, ср. Марко-Королевич в ряде сюжетов (болгарский Марко-змееборец и т. п.) [Наумов, 1971:10].
В восточнославянском эпосе, былинах и песнях известны богатыри-змееборцы, также их поединки с врагами-иноплеменниками. Есть циклы сюжетов о Добрыне, Василии Буслаеве, Алёше Поповиче, Илье Муромце, Вольге, Микуле и др. и об их противниках, среди которых Соловей-разбойник, Тугарин, Идолище и др.
В восточнославянских сказках фигурируют чудесно-рождённые богатыри-змееборцы – сыновья собаки, лошади, коровы или другого животного: Иван (Василий) Сукин, Сучкин, Таратурка Собачий сын, Медвежье ушко, Иван Кобыльников, Быков сын, Вол Волович и др. Многоглавый змей, с которым борется богатырь, носит имя Чудо-Юдо, или Окаянный дух, Поганое Поганище и т. п. [Бараг, 1981:164].
В заговорах употребляются как реальные топонимы (Чёрное море, Афон гора, река Волга, река Дунай, город Иерусалим и др.), так и искажённые (Гесимянная гора вместо Гефсиманского сада) или вымышленные (вода Елена, вода Ульяна, земля Тетяна, Арапское море, Вертеп гора и др.). Олицетворяются и получают человеческие имена зоря Мария, зоря Маремьяния, змеиные панны Марья, Магдалена. Упоминаются имена библейских персонажей: царь Давид, Ева, Адам, Исаак, Иаков, Ирод, святые Михаил Архистратиг, Пётр и Павел, и т. д. Мифические имена: остров Буян, камень Алатырь, Фавор-гора, Яост остров, бабушка Салманида (возможно, от имени царя Соломона) и т. д.
Наконец, в фольклоре разных народов можно встретить названия вымышленных стран. В русской волшебной сказке есть тридевятое или тридесятое царство, которое может помещаться под землёй, под водой, на горе. Мифической страной восточных славян был Вырий или Ирий: это южный край, волшебная тёплая страна, в которую на зиму прилетают птицы. В осетинском нартском эпосе подробно разработана топография мифологического пространства. Наряду со Страной нартов – эпической страной предков – здесь есть и страна Терк-Турк, враждебная нартам (Терк – осетинское название Терека), подводная страна Донбеттыра и Страна мёртвых, над которой владычествует Барастыр и которую нельзя посещать живому человеку, как и в греческой мифологии (Орфей и Эвридика).
Этим далеко не исчерпывается тема роли ономастических данных в науках гуманитарного цикла, о чём рассказано во Введении к книге “Камень и горы в народной культуре”.
Литература
1. Авдеев А.Г. Валунные надгробия Верхневолжья (конец XV – вторая треть XVIII в.): Вопросы генезиса, бытования и источниковедения. М., 2015.
2. Агеева Р.А. Как появились названия рек и озёр. М., 2012.
3. Агеева Р.А. О статусе этнонимов в языке: Заметки на полях // Актуальные проблемы гуманитарных исследований. Улан-Удэ, 2011. С.162–174.
4. Агеева Р.А., Бахнян К.В. Социологический аспект имени собственного (к XV Международному конгрессу по ономастике, 13–17 авг.1984 г., Лейпциг). М., 1984.
5. Агеева Р.А., Соколова Т.П. О московских эргонимах // Экология языка и речи: Мат-лы Междунар. науч. конф. (17–18 ноября 2011 г.). Тамбов, 2012. С. 316–318.
6. Бараг Л.Г. Сюжет о змееборстве на мосту в сказках восточнославянских и других народов // Славянский и балканский фольклор: Обряд. Текст. М., 1981. С. 160–188.
7. Бузакова Р.Н. Особенности мордовских зоонимов // Ономастика Поволжья 3. Мат-лы III конф. по ономастике Поволжья. Уфа, 1973. С. 386–390.
8. Бурыкин А.А. Топография и топонимия Поволжья в дилогии И. Ильфа и Е. Петрова “Двенадцать стульев” и “Золотой телёнок” // Ономастика Поволжья: Мат-лы XV Междунар. науч. конф. Арзамас, 13–16 сентября 2016 г. Арзамас – Саров, 2016. С. 410–414.
9. Варникова Е.Н. Зоонимы: место в ономастическом пространстве // Вопросы ономастики, Екатеринбург, 2011, № 1 (10). С.51–62.
10. Введенская Л.А., Колесников Н.П. От собственных имён к нарицательным. М., 1981.
11. Виноградова Л.Н. Фольклор как источник для реконструкции древней славянской культуры // Славянский и балканский фольклор / Реконструкция древней славянской духовной культуры: источники и методы. М., 1989. С. 101–121.
12. Горбаневский М.В. Ономастика в художественной литературе: Филологические этюды. М.,1988.
13. Горбаневский М.В., Емельянова М.И. Улицы Старой Руссы: История в названиях. М., 2004.
14. Гусев В.Е. Славянский обряд проводов весны // История, культура, этнография и фольклор славянских народов. Х Междунар. съезд славистов. София, сентябрь 1988 г. Доклады советской делегации. М., 1988. С. 196–208.
15. Джарылгасинова Р.Ш. Историческая ономастика Кореи в сочинении И.А. Гончарова «Фрегат “Паллада”» (1858 г.) // Ономастика Поволжья. Мат-лы VIII конф. по ономастике Поволжья. Волгоград, 8–11 сентября 1998 г. М., 2001. С. 220–235.

