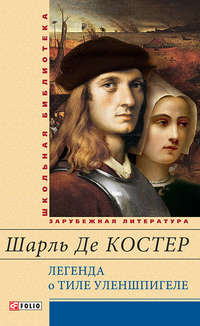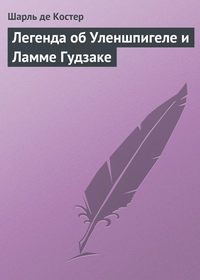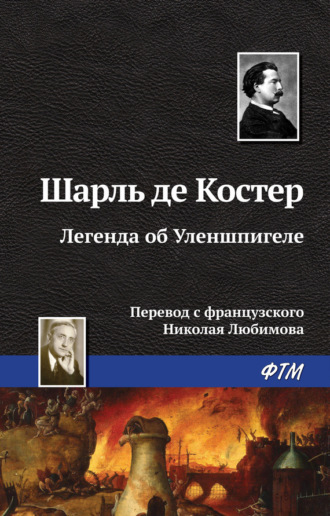
Полная версия
Легенда об Уленшпигеле
Найдя, что город слишком хорошо защищен, он велел снести Красную башню, башню в Жабьей норе, Браампоорт, Стинпоорт, Ваальпоорт, Кетельпоорт и много других строений, славившихся своими изваяниями и филигранной резьбой.
Когда потом в Гент заезжали иностранцы, они спрашивали друг друга:
– Почему нам про этот скучный, ничем не примечательный город рассказывали чудеса?
А гентцы отвечали:
– Император Карл снял с города его драгоценный пояс.
При этом они испытывали стыд и гнев.
Император распорядился употребить кирпич, оставшийся от разрушенных зданий, на постройку крепости.
Он положил дотла разорить Гент, дабы трудолюбие горожан, дабы промышленность и денежные средства города не помешали его, Карла, честолюбивым замыслам. С этой целью он повелел городу уплатить невнесенную дань в размере четырехсот тысяч червонцев, сверх того уплатить сто пятьдесят тысяч каролю единовременно, а помимо этого городу надлежало ежегодно уплачивать шесть тысяч. Когда-то Гент дал императору денег взаймы. Карл обязался выплачивать городу сто пятьдесят ливров ежегодно. Теперь Карл отобрал у Гента свои долговые обязательства. При таком способе платить долги Карл, естественно, разбогател.
Гент неоднократно выказывал ему свою любовь, не раз выручал его, но Карл вонзил ему в грудь кинжал. Ему уже недостаточно было отцовской поддержки – ему нужна была отцовская кровь.
Немного погодя он остановил свое внимание на красивом колоколе «Роланде». Он приказал повесить на его языке того, кто ударил в набат, призывая город к защите своих прав. Он не пощадил и «Роланда», не пощадил язык своего отца, язык, которым тот говорил с Фландрией, – «Роланда», гордый колокол, который сам о себе сказал так:
Если слышен мой гул – значит, где-то горит,Если звон – стране ураган грозит.Найдя, что его отец говорит слишком громко, он снял колокол. И тогда пошла среди окрестных сельчан молва: Гент умер, оттого что сын железными клещами вырвал у него язык.
29
В один из ясных и свежих весенних дней, когда вся природа полна любви, Сооткин шила у открытого окна, Клаас что-то напевал, а Уленшпигель напяливал на Тита Бибула Шнуффия судейскую шапочку. Пес преважно поднимал лапу, как будто выносил кому-то приговор, а на самом деле просто пытался стащить с себя украшение.
Внезапно Уленшпигель, захлопнув снаружи окно, вбежал в комнату и, растопырив руки, запрыгал по стульям и столам. Наконец Сооткин и Клаас сообразили, что всю эту возню он затеял для того, чтобы поймать прелестную маленькую птичку, которая прижалась к ребру потолочной балки и, трепеща крылышками, издавала испуганный писк.
Уленшпигель совсем уж было до нее дотянулся, как вдруг его окликнул Клаас:
– Ты чего прыгаешь?
– Хочу поймать птичку, – отвечал Уленшпигель, – потом я посажу ее в клетку, дам ей зерен, и пусть она поет мне песни.
Птичка между тем с жалобным писком летала по комнате и билась головкой об оконные стекла.
Уленшпигель опять было запрыгал, но Клаас положил ему на плечо свою тяжелую руку.
– Что ж, лови ее, – сказал он, – сажай в клетку, и пусть она поет тебе песни, ну а я тебя самого посажу в клетку с толстыми железными прутьями и заставлю петь. Ты любишь бегать, а тогда уж не побегаешь. Будет холодно, а ты сиди себе в тени; будет жарко – сиди на солнцепеке. Потом как-нибудь в воскресенье мы уйдем, забудем оставить тебе еды и вернемся не раньше четверга, а когда вернемся, то увидим, что наш Тиль протянул лапки – умер с голоду.
Сооткин плакала. Уленшпигель рванулся.
– Ты куда? – спросил Клаас.
– Сейчас отворю птичке окно, – отвечал Уленшпигель.
И точно: птичка, оказавшаяся щеглом, выпорхнула в окно и с радостным криком полетела стрелой, затем опустилась на ближнюю яблоню, расправила крылышки, почистила клювиком перышки, потом вдруг рассердилась и на своем птичьем языке осыпала Уленшпигеля бранью. И тут Клаас сказал Уленшпигелю:
– Сын мой, никогда не лишай свободы ни человека, ни животное – свобода есть величайшее из всех земных благ. Предоставь каждому греться на солнце, когда ему холодно, и сидеть в тени, когда ему жарко. И пусть Господь Бог судит его святейшее величество за то, что он сперва заковал в цепи свободную веру во Фландрии, а потом засадил в клетку рабства доблестный Гент.
30
Женившись на Марии Португальской[55], Филипп принял ее владения под свой скипетр. Она родила ему дона Карлоса, жестокого безумца. Но Филипп не любил свою жену!
Роды у королевы были неблагополучные. Окруженная придворными дамами, среди которых была герцогиня Альба, она лежала на одре болезни.
Филипп часто покидал ее и шел смотреть, как жгут еретиков. Придворные, и мужчины и женщины, брали с него пример. В частности, так поступала знатная сиделка королевы, герцогиня Альба.
Как раз в то время инквизиция осудила одного фламандского скульптора католического вероисповедания: один монах не уплатил ему обещанных денег за деревянное изображение Божьей Матери, а скульптор сказал, что он лучше уничтожит свое творение, но за гроши не отдаст, и изрезал резцом весь лик.
Монах донес, что он святотатец, его пытали без всякого милосердия и приговорили к сожжению на костре.
Во время пытки ему сожгли подошвы ног, и по дороге из тюрьмы на костер скульптор, облаченный в сан-бенито[56], все кричал:
– Отрубите мне ноги! Отрубите мне ноги!
Филипп издали слышал эти вопли, они доставляли ему наслаждение, но смеяться он не смеялся.
Придворные дамы покинули королеву Марию, дабы присутствовать при сожжении. После всех, оставив королеву одну, ушла герцогиня Альба – услышав вопли фламандского скульптора, она возымела желание непременно полюбоваться этим забавным зрелищем.
Когда Филипп и все его приближенные – князья, графы, дворяне и дамы – были в сборе, фламандского скульптора длинной цепью приковали к столбу, стоявшему в центре огненного круга из пучков соломы и вязанок хвороста, так что осужденный мог при желании держаться поближе к столбу, подальше от самого жара, и жечься на медленном огне. И все с любопытством смотрели, как он, почти голый, напрягает все свои душевные силы в борьбе с нестерпимой мукой.
А в это время королеве Марии захотелось пить. На блюде лежала половина дыни. Кое-как добрела она до стола, взяла кусок дыни и весь его съела.
От холодной дыни ее зазнобило, она вся покрылась ледяным потом и бессильно опустилась на пол.
– Ах! – простонала она. – Хоть бы кто-нибудь перенес меня на кровать – я бы согрелась!
Но тут до нее долетел вопль несчастного скульптора:
– Отрубите мне ноги!
– Ай! – воскликнула королева Мария. – Что это? Собака воет перед моей смертью?
В это мгновение скульптор, обведя глазами толпу и увидев одни свирепые лица испанцев, подумал о Фландрии – стране мужественных людей, – скрестил на груди руки и, влача за собой длинную цепь, направился прямо к горящей соломе и хворосту, а затем бестрепетно взошел на костер.
– Так умирают фламандцы на глазах у испанских палачей! – воскликнул он. – Отрубите ноги, но не мне, а им, чтобы они больше не сбегались на казни! Да здравствует Фландрия! Да здравствует во веки веков!
И тут все дамы, потрясенные твердостью его духа, наградили его рукоплесканиями и стали просить, чтобы скульптора пощадили.
Но скульптор умер.
Королева Мария дрожала всем телом, рыдала, зубы у нее стучали от холода близкой смерти, наконец, вытянув руки и ноги, она проговорила:
– Положите меня в постель, я хочу согреться!
И умерла.
Так, оправдывая предсказание доброй колдуньи Катлины, Филипп всюду сеял смерть, слезы и кровь.
31
А Уленшпигель и Неле были без памяти влюблены друг в друга.
Апрель подходил к концу, все деревья цвели, все растения, набухая соками, ожидали мая, а май всегда слетает на землю радужный, как павлин, душистый, как букет цветов, и при его появлении запевают в садах соловьи.
Уленшпигель и Неле часто гуляли вдвоем. Неле прижималась к Уленшпигелю, держалась за него обеими руками. Уленшпигелю это было приятно; он обнимал ее за талию и говорил: «Так еще крепче будет». Ей это тоже доставляло удовольствие, но она молчала.
По дорогам лениво кружил ветерок, напоенный ароматами луга. Вдали под лучами солнца томно рокотало море. Уленшпигель был горд, как молодой бесенок, а Неле стыдилась своего блаженства, как юная святая в раю.
Она склоняла головку к нему на плечо, а он брал ее руки и на ходу целовал в лоб, в щеки, в хорошенькие губки. Но она все молчала.
Некоторое время спустя они, изнемогая от зноя, от жажды, заходили в деревню напиться молока, но это их не освежало.
Они садились на траву у обрыва. Неле была бледна и задумчива, Уленшпигель с тревогой глядел на нее.
– Тебе грустно? – спрашивала она.
– Да, – отвечал он.
– Отчего? – допытывалась она.
– Сам не знаю, – отвечал он. – Но только эти яблони и вишни в цвету, душный воздух, как перед грозой, маргаритки, розовеющие в лугах, белый-белый боярышник, которым окружен наш сад… Да нет, разве поймешь, откуда это томление, почему мне хочется не то умереть, не то уснуть? Когда я слышу, как поутру на ветвях гомозятся птички, когда я вижу, что прилетели ласточки, сердце у меня готово выпрыгнуть из груди. Меня тянет взлететь выше солнца и месяца. Меня бросает то в жар, то в холод. Ах, Неле, как бы я хотел унестись прочь от земли! Или нет: я хотел бы отдать не одну, а тысячу жизней ради той, которая меня полюбит…
А Неле молча смотрела на Уленшпигеля и вся сияла от счастья.
32
В день поминовения усопших Уленшпигель вместе с несколькими озорниками, своими однолетками, вышел из собора. Ламме Гудзак в этой компании напоминал ягненка в стае волков.
Мать Ламме по воскресным и праздничным дням давала сыну три патара, и сегодня он решил тряхнуть мошной и угостить приятелей.
С этой целью он их повел in den Rooden Schildt, в «Красный Щит» к Яну ван Либеке, и спросил куртрейского dobbel-knollaert’a.[57]
Пиво развязало языки, и, когда речь зашла о молитвах, Уленшпигель прямо заявил, что заупокойные службы выгодны только попам.
На беду, в их компанию затесался иуда – он донес, что Уленшпигель еретик. Невзирая на слезы Сооткин и настойчивые просьбы Клааса, Уленшпигеля схватили и бросили в тюрьму. Месяц и три дня сидел он в подвале, за решеткой, не видя живой души. Тюремщик съедал три четверти того, что Уленшпигелю полагалось из еды. За это время были наведены справки о том, какие за ним водятся добрые и худые дела. По справкам оказалось, что это всего-навсего злой насмешник, любящий дурачить честной народ, но что никогда не изрыгал он хулы ни на Пречистую Деву, ни на святых угодников. По сему обстоятельству приговор был вынесен мягкий, в противном же случае ему выжгли бы на лбу клеймо и бичевали бы до крови.
Суд принял в соображение его несовершеннолетие, и Уленшпигель отделался тем, что в первом же крестном ходу он шел за духовенством босиком, с непокрытой головой, в одной рубахе, и держал в руке свечу.
Было это на Вознесение.
Когда же процессия снова приблизилась к соборной паперти, Уленшпигель во исполнение все того же приговора остановился и воскликнул:
– Благодарю тебя, Господи Иисусе! Благодарю вас, отцы иереи! Ваши молитвы отрадны для душ, томящихся в чистилище, отрадны и освежительны, ибо каждая «Богородица» – это ведро воды, изливающееся на их спины, а каждый «Отче наш» – это целый ушат.
Народ внимал ему с великим благоговением, хоть и посмеиваясь в кулак.
В Троицын день Уленшпигелю еще раз надлежало пройти с крестным ходом. Опять он был в одной рубашке, босиком, с непокрытой головой и держал в руке свечу. На обратном пути он остановился у входа в собор и, набожно держа свечу, что не мешало ему, однако, строить уморительные рожи, сказал громко и внятно:
– Молитва каждого христианина несказанно облегчает душу, томящуюся в чистилище, молитва же настоятеля нашего собора, человека святого, всеми добродетелями украшенного, мгновенно гасит палящий огнь чистилища и превращает его в шербет. Но бесам, терзающим грешников, ни капельки не достается.
И опять народ внимал ему с великим благоговением, хоть и посмеиваясь в кулак, настоятель же улыбался улыбкой довольной и благостной.
После этого Уленшпигель был изгнан на три года из Фландрии, причем возвратиться на родину он имел право только в том случае, если за это время он совершит паломничество в Рим и если папа дарует ему отпущение грехов.
Клаас уплатил за приговор три флорина, а еще один флорин дал на дорогу Уленшпигелю и одел его, как приличествует паломнику.
Горько было Уленшпигелю прощаться с Клаасом и Сооткин – со своей скорбящей и плачущей матерью. Родители да несколько горожан и горожанок проводили его далеко.
Вернувшись в свою лачугу, Клаас сказал Сооткин:
– Уж больно они его строго, жена, – подумаешь, сболтнул малый сдуру!
– Ты плачешь, муженек? – молвила Сооткин. – Ты только никогда не показываешь, а, стало быть, крепко его любишь: ведь рыдания мужчины – это все равно что плач льва.
Но он ничего не сказал ей в ответ.
Неле забилась в сарай, чтобы никто не видел, что она плачет об Уленшпигеле. На росстанях она шла позади Клааса, Сооткин, горожан и горожанок. Когда же Уленшпигель зашагал один, она догнала его и бросилась к нему на шею.
– Ты встретишь много красивых дам, – сказала она.
– Красивых – может быть, но таких свежих, как ты, не встречу, – возразил Уленшпигель, – они все изжарились на солнце.
Уленшпигель и Неле долго шли вместе. Уленшпигель был занят своими мыслями и лишь по временам ронял:
– Заплатят они мне за свои заупокойные службы!
– Какие службы? Кто заплатит? – допытывалась Неле.
Наконец Уленшпигель ответил ей так:
– Все настоятели, приходские и домашние священники, пономари и всякое прочее поповское отродье – все, кто нас морочит. Если б я был работягой, они бы из-за этого паломничества лишили меня плодов трехлетнего труда. В убытке бедный Клаас. Ну, они мне сторицей заплатят за эти три года, и я еще помяну их за упокой, да на их же денежки!
– Полно, Тиль, будь осторожен, а то они тебя на костре сожгут, – молвила Неле.
– Я в огне не горю, – возразил Уленшпигель.
И тут они расстались: она в слезах, а он – удрученный и озлобленный.
33
В Брюгге, куда Уленшпигель попал в среду, в базарный день, он увидел, что по рыночной площади палач и его подручные волокут женщину, за которой следует толпа других женщин, вопящих и осыпающих ее зазорной бранью.
Разглядев полосы красной материи, пришитые к ее одежде на спине и груди, разглядев у нее на шее камень правосудия, висевший на железной цепи, Уленшпигель догадался, что эта женщина торговала юным и свежим телом своих дочерей. Ему сказали, что зовут ее Барб, что она замужем за Язоном Дарю, что в этом одеянии ей надлежит обойти все площади и в конце концов вернуться на Большой рынок, где для нее уже воздвигнут эшафот. Уленшпигель пошел за галдевшей толпой. Как скоро преступница вернулась на Большой рынок, ее заставили взойти на эшафот и привязали к столбу, после чего палач насыпал у ее ног земли, а сверху травы, что должно было означать могилу.
Еще Уленшпигелю сказали, что ее уже секли в тюрьме.
Далее ему повстречался Генри Кузнец, проходимец и побирушка, всех уверявший, будто его вешали в Вест-Ипрском кастелянстве, и показывавший на шее ссадины от веревок. Свое «чудесное избавление» он изображал таким образом: повиснув в воздухе, он усердно помолился Галльской Божьей Матери, и в то же мгновение судьи удалились, веревка, уже не душившая его, лопнула, а он сам грохнулся наземь и спасся.
Однако позднее Уленшпигель узнал следующее: этому избавившемуся от петли проходимцу, выдававшему себя за Генри Кузнеца, не возбранялось рассказывать небылицы по той причине, что он запасся грамотой от настоятеля собора Галльской Божьей Матери, настоятель же снабдил его грамотой за то, что благодаря россказням мнимого Генри Кузнеца в собор отовсюду стекались и делали изрядные вклады все те, кто чуял виселицу более или менее близко от себя. И долго потом Галльская Божья Матерь именовалась заступницей повешенных.
34
Между тем инквизиторы и богословы вторично заявили императору Карлу: что церковь гибнет; что влияние ее падает; что славными своими победами он обязан молитвам католической церкви, которая является верной опорой его могущественной державы.
Один испанский архиепископ потребовал, чтобы его величество отрубил шесть тысяч голов или сжег столько же тел, дабы искоренить в Нидерландах зловредную Лютерову ересь[58]. Его святейшее величество нашел, что этого еще мало.
Вот почему, куда бы ни заходил бедный Уленшпигель, всюду с ужасом видел он срубленные головы на шестах, видел, как на девушек накидывали мешки и бросали в реку, видел, как голых мужчин, растянутых на колесе, били железными палками, как женщин зарывали в землю и как палачи плясали на них, чтобы раздавить им грудь. За каждого из тех, кого удавалось привести к покаянию, духовники получали двенадцать солей.
В Лувене он видел, как палачи зажгли костер пушечным порохом и как на этом костре погибло тридцать лютеран сразу. В Лимбурге он видел, как целая семья – мужья и жены, дочери и зятья – с пением псалмов взошла на костер. Во время казни только у одного старика вырвался крик.
А Уленшпигель, устрашенный и удрученный, шел все дальше и дальше по этой несчастной земле.
35
В полях он отряхивался, как птица, как спущенная с цепи собака. При виде лугов, деревьев и ясного солнца на душе у него становилось легче.
Три дня спустя вошел он в богатое село Уккле, под Брюсселем. Возле гостиницы «Охотничий Рог» его остановил дивный запах жаркого. Он спросил юного попрошайку, который, задрав нос, с наслаждением втягивал аромат приправ, в честь чего поднимается к небу сей праздничный фимиам. Попрошайка ответил, что после вечерни сюда должны прийти члены Братства «Толстая Морда», дабы отпраздновать годовщину освобождения Уккле, в стародавние времена совершенного женщинами и девушками.
Увидев издали шест с попугаем[59], а вокруг шеста – женщин, вооруженных луками, Уленшпигель спросил, давно ли бабы стали лучниками.
Попрошайка, по-прежнему вдыхая аромат приправ, ответил, что при Добром Герцоге укклейские бабы с помощью таких же вот луков отправили на тот свет более ста лиходеев.
Уленшпигель хотел еще кое о чем его расспросить, однако попрошайка объявил, что он алчет и жаждет и не вымолвит ни единого слова, пока не получит патар на выпивку и закуску. Уленшпигель из жалости выдал ему таковой.
Попрошайка схватил патар, проскользнул, точно лиса в курятник, в «Охотничий Рог» и тотчас же возвратился оттуда с победой, держа в руках полкруга колбасы и краюху хлеба.
Тут послышались приятные звуки тамбуринов и виол, а вслед за тем Уленшпигель увидел многое множество пляшущих женщин и среди них – красотку с золотой цепочкой на шее.
Попрошайка, с лица которого не сходила теперь, после того как он наелся, блаженная улыбка, пояснил Уленшпигелю, что юная красотка – царица всех лучниц, что зовут ее Митье и что она замужем за местным старшиной, мессиром Ренонкелем. Затем он попросил у Уленшпигеля еще шесть лиаров на выпивку – Уленшпигель и в этом ему не отказал. Выпив и закусив, попрошайка уселся на солнышке и принялся ковырять в зубах.
Как скоро Уленшпигель привлек внимание поселянок странническим своим одеянием, они тотчас же заплясали вокруг него, приговаривая:
– Здравствуй, пригожий богомолец! Издалека ли ты, богомолец молоденький?
Уленшпигель же на это ответил так:
– Я иду из Фландрии, из прекрасного края, где много влюбленных девушек.
При этом он с грустью подумал о Неле.
– Какой же ты грех совершил? – спросили они, перестав плясать.
– Грех мой так велик, что я не смею его назвать, – отвечал он. – Зато у меня есть еще кое-что, и тоже изрядной величины.
Бабенки прыснули и спросили, почему он странствует с посохом, с сумой и с прочими принадлежностями.
– Я сказал, что заупокойные службы выгодны только попам, вот и вся моя вина, – слегка прилгнув, отвечал он.
– За службы попы правда получают звонкой монетой, но службы приносят пользу душам в чистилище, – заметили они.
– Я там не был, – возразил Уленшпигель.
– Хочешь закусить с нами, богомолец? – спросила самая миловидная лучница.
– Хочу закусить с вами, – отвечал Уленшпигель, – хочу закусить тобой и всеми остальными по очереди: ведь вы самое лакомое блюдо, какое только можно себе представить, – куда там ортоланы, дрозды и бекасы!
– Господь с тобой! – воскликнули лучницы. – Да этой дичи цены нет.
– Вам тоже, красавицы, – ввернул Уленшпигель.
– Да ведь мы не продаемся, – сказали они.
– Стало быть, даром даете? – спросил Уленшпигель.
– Даем, – отвечали они, – наглецам по шее. Хочешь, мы тебя сейчас измолотим, как сноп?
– Нет уж, увольте, – сказал Уленшпигель.
– То-то! Пойдем-ка лучше закусим, – предложили они.
Они повели его во двор гостиницы, а он не отрывал веселых глаз от их юных лиц. Неожиданно во двор с великой торжественностью под звуки трубы, дудки и тамбурина, развернув стяг, вошли члены Братства «Толстая Морда», все до одного – откормленные, вполне оправдывавшие уморительное это название. Они с изумлением уставились на Уленшпигеля, но женщины поспешили им сообщить, что странник встретился им на улице и морда его показалась им подходящей, вроде как у всех ихних женихов и мужей, а потому они пригласили его на праздник.
Мужчины одобрили их, и один из них обратился к Уленшпигелю:
– А что, странствующий странник, не желаешь ли ты постранствовать по жарким и подливкам?
– У меня есть сапоги-скороходы, – отвечал Уленшпигель.
Направляясь в пиршественную залу, Уленшпигель заметил, что по парижской дороге бредут двенадцать слепцов. Когда же они прошли мимо него, жалуясь на голод и жажду, он решил по-царски накормить их ужином за счет укклейского священника и в память о заупокойных службах.
Он приблизился к ним и сказал:
– Вот вам девять флоринов. Пойдемте закусим! Чуете запах жаркого?
– Мы его за полмили почуяли, но, увы! без всякой надежды, – отвечали они.
– На девять флоринов можно наесться, – сказал Уленшпигель.
На руки он им денег, однако, не дал.
– Спаси Христос, – поблагодарили слепцы.
Уленшпигель подвел их к небольшому столу, меж тем как вокруг большого рассаживались члены Братства «Толстая Морда» со своими женами и дочерьми.
– Хозяин! – твердо рассчитывая на девять флоринов, с независимым видом молвили нищие. – Дай нам всего самого лучшего из еды и питья.
Трактирщик слышал разговор о девяти флоринах; будучи уверен, что деньги у них в кошелях, он спросил, чего бы им подать.
Тут все они загалдели наперебой:
– Гороху с салом, рагу из говядины, из телятины, из барашка, из цыплят! – А сосиски для собак, что ли? – А кто, внезапно почуяв запах колбасы, все равно – кровяной или же ливерной, не схватит ее за шиворот? Я ее видел – увы! – когда глаза мои мне еще светили. – A koekebakk’и[60] на андерлехтском масле есть? На сковородке они шипят, на зубах хрустят, съел – и кружку пива хлоп, съел – и кружку пива хлоп! – А мне яичницу с ветчиной или ветчину с яичницей, верных подруг моей глотки! – А дивные choesel’и[61] есть? Эти горделивые мяса плавают среди почек, петушьих гребешков, телячьих желез, бычьих хвостов, бараньих ножек, среди уймы луку, перцу, гвоздики, мускату, и все это долго тушилось, а соус к ним – три стакана белого вина. – Нет ли у вас божественной вареной колбасы? Она такая кроткая, что, когда ее лопаешь, – она – ни слова. Попадает она к нам прямо из Luyleckerland’а[62], из сытного края блаженных бездельников, вылизывателей бессмертных подливок. Но где вы, листья осени минувшей? – Мне жареной баранины с бобами! – А мне свиные султаны, сиречь ушки! – А мне четки из ортоланов, только пусть там заместо «Отче наш» будут бекасы, а заместо «Верую» – жирный каплун.
На это им трактирщик с невозмутимым видом сказал:
– Вам подадут яичницу из шестидесяти яиц, путеводными столбами для ваших ложек послужат пятьдесят жареных дымящихся колбасок, которые увенчают эту гору снеди, омывать же ее будет целая река dobbelpeterman’a.[63]
У бедных слепцов потекли слюнки.
– Давай нам скорей и гору, и столбы, и реку, – сказали слепцы.
А члены Братства «Толстая Морда» и их супруги, сидя вместе с Уленшпигелем, толковали о том, что для слепых это пирушка невидимая и что бедняги теряют половину удовольствия.
Как скоро трактирщик и четыре повара принесли яичницу, процветшую петрушкой и настурцией, слепцы набросились на нее и стали хватать руками, но трактирщик, хоть и не без труда, разделил ее поровну и разложил по тарелкам.