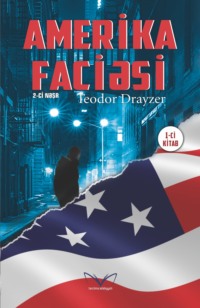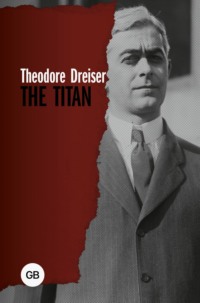Полная версия
Финансист
Подобная комбинация, туманная для человека непосвященного, совершенно ясна опытному биржевику. Самые разнообразные уловки искони практиковались на бирже, когда дело касалось ценностей, находящихся под нераздельным контролем одного человека или определенной группы людей. Эта комбинация ничем не отличалась от того, что позднее проделывалось с акциями «Ири», «Стандард ойл», «медными», «сахарными», «пшеничными» и всякими другими. Каупервуд одним из первых – в бытность свою еще молодым биржевиком – понял, как устраиваются такие дела. Ко времени его первой встречи со Стинером ему было двадцать восемь лет. Когда он в последний раз «сотрудничал» с ним, ему минуло тридцать четыре.
Постройка домов для семейств старого и молодого Каупервудов и переделка фасада банкирской конторы «Каупервуд и К°» быстро подвигались вперед. Фасад конторы был выдержан в раннем флорентийском стиле: с окнами, суживающимися кверху, с узорчатой кованой дверью между изящными резными колонками и карнизом из бурого известняка. На середине этой невысокой, но изящной и внушительной двери была искусно вычеканена тонкая, нежная рука с вознесенным пылающим факелом. Элсуорт объяснил Каупервуду, что в старину в Венеции такую руку изображали на вывесках меняльных лавок, но теперь первоначальное значение этой эмблемы позабылось.
Внутри помещение было отделано полированным деревом, узор которого воспроизводил древесный лишай. Окна сверкали множеством мелких граненых стекол – овальных, продолговатых, квадратных и круглых, расположенных по определенному, приятному для глаза, рисунку. Газовые рожки были сделаны по образцу римских светильников, а конторский сейф, как это ни странно, служил украшением: он стоял в глубине конторы на мраморном постаменте, и по его лакированной серебристо-серой поверхности было золотом выгравировано: «Каупервуд и К°». Все помещение, выдержанное в благородно-строгом вкусе, в то же время свидетельствовало о процветании, солидности и надежности. Когда здание было готово, Каупервуд осмотрел его и с довольным видом похвалил Элсуорта:
– Мне нравится! Это очень красиво! Работать здесь – одно удовольствие. Если особняки получатся такие – это будет великолепно!
– Подождите еще хвалить, пока они не окончены! Впрочем, думаю, что вы останетесь довольны, мистер Каупервуд. Мне пришлось немало поломать себе голову над вашим домом из-за его небольших размеров. Дом вашего отца дается мне значительно легче. Но ваш…
И он пустился в описание вестибюля и гостиных, большой и малой, которые он располагал и отделывал так, чтобы они выглядели более просторными в внушительными, чем позволяли их скромные размеры.
Когда строительство было закончено, оказалось, что оба дома и в самом деле весьма эффектны, оригинальны и нисколько не похожи на заурядные особняки по соседству. Их разделяла зеленая лужайка футов в двадцать шириною. Архитектор, позаимствовав кое-что от школы Тюдоров, отказался от той вычурности, которая стала позднее отличать многие особняки Филадельфии и других американских городов. Особенно хороши были двери, расположенные в широких, низких, скупо орнаментированных арках, и три застекленных фонаря необычайной формы, один – во втором этаже у Фрэнка, два – внизу, на фасаде отцовского дома. Над фронтонами обоих домов виднелись коньки крыш: два у Фрэнка, четыре у его отца. Каждый фасад имел в первом этаже по окну в глубокой нише, образованной выступами наружной стены. Эти окна были защищены со стороны улицы низеньким парапетом, вернее балюстрадой. На ней можно было поставить горшки с вьющимися растениями и цветами, что и было сделано впоследствии, так что с улицы окна, утопающие в зелени, выглядели особенно приятно. В глубине ниш Каупервуды расставили стулья.
В нижнем этаже обоих домов были устроены зимние сады – один напротив другого, а посреди общего дворика – белый мраморный фонтан восьми футов диаметром, с мраморным купидоном, на которого ниспадали струи воды. Этот дворик, обнесенный высокой, с просветами, оградой из зеленовато-серого кирпича, специально обожженного в тон граниту, из которого был сложен дом, облицованный поверху белым мрамором, был весь засеян зеленой бархатистой травой и производил впечатление мягкого зеленого ковра. Оба дома, как это и было намечено с самого начала, соединялись галереей из зеленых колонок, застеклявшейся на зиму.
Теперь Элсуорт уже начал постепенно отделывать и обставлять комнаты в стиле разных эпох, что сыграло большую роль в развитии художественного вкуса Фрэнка Каупервуда и расширило его представление о великом мире искусств. Весьма поучительны и ценны в этом отношении были для него долгие беседы с Элсуортом о стилях и типах архитектуры и мебели, о различных породах дерева, о применении орнаментов, о добротности тканей, о правильном использовании занавесей и портьер, о фанеровке мебели и всевозможных видах паркета. Элсуорт наряду с архитектурой изучал также декоративное искусство и много размышлял над вопросом о художественном вкусе американского народа: вкус этот, как он полагал, должен будет очень развиться с течением времени. Молодому архитектору до смерти надоело преобладавшее в ту пору романское сочетание загородной виллы с особняком. Настало время для чего-то нового. Он и сам еще не знал, каково будет это новое, но пока что радовался уже и тому, что спроектированные им для Каупервудов дома были оригинальны, просты и приятны для глаза. Благодаря этим качествам они выгодно выделялись на фоне архитектуры всей остальной улицы. В доме Фрэнка, по замыслу Элсуорта, в нижнем этаже помещались столовая, зал, зимний сад и буфетная, а также главный вестибюль, внутренняя лестница и гардеробная под нею; во втором – библиотека, большая и малая гостиные, рабочий кабинет Каупервуда и будуар Лилиан, соединявшийся с туалетной и ванной.
В третьем этаже, искусно спланированном и оборудованном ванными и гардеробными комнатами, находились детская, помещения для прислуги и несколько комнат для гостей.
Элсуорт знакомил Каупервуда с эскизами мебели, портьер, горок, шкафчиков, тумбочек и роялей самых изысканных форм. Они вдвоем обсуждали различные способы обработки дерева – жакоб, маркетри, буль и всевозможные его сорта: розовое, красное, орех, английский дуб, клен, «птичий глаз». Элсуорт объяснял, какого мастерства требует изготовление мебели буль и как нецелесообразна она в Филадельфии: бронзовые или черепаховые инкрустации коробятся от жары и сырости, а потом начинают пузыриться и трескаться. Рассказывал он и о сложности и дороговизне некоторых видов отделки и в конце концов предложил золоченую мебель для большой гостиной, гобеленовые панно для малой, французской, ренессанс для столовой и библиотеки, а для остальных комнат – «птичий глаз» (кое-где голубого цвета, кое-где естественной окраски), а также легкую мебель из резного ореха. Портьеры, обои и ковры, по его словам, должны были гармонировать с обивкой мебели, но не точно совпадать с нею по тонам. Рояль и нотный шкафчик в малой гостиной, а также горки, шкафчики, тумбы в зале он рекомендовал, если Фрэнка не отпугнет дороговизна, все-таки отведать в стиле буль или маркетри.
Элсуорт советовал еще заказать рояль треугольной формы, так как четырехугольный наводит уныние. Каупервуд слушал его как зачарованный. Ему уже рисовался дом, благородный, уютный, изящный. Картины – если он пожелает обзавестись таковыми – должны быть оправлены в массивные резные золоченые рамы; а если он решит устроить целую картинную галерею, то под нее можно приспособить библиотеку, а книги разместить в большой гостиной на втором этаже, расположенной между библиотекой и малой гостиной. Позднее, когда у Фрэнка развилась подлинная любовь к живописи, он осуществил эту мысль.
С этого времени в нем пробудился живой интерес к произведениям искусства и к художественным изделиям – картинам, бронзе, резным безделушкам и статуэткам, которыми он заполнял шкафчики, тумбы, столики и этажерки своего нового дома. В Филадельфии вообще трудно было достать подлинно изящные вещи такого рода, а в магазинах они и вовсе отсутствовали. Правда, многие частные дома изобиловали очаровательными безделушками, привезенными из дальних путешествий, но у Каупервуда пока что было мало связей с «лучшими семьями» города. В те времена славились два американских скульптора: Пауэрс и Хосмер – у Фрэнка имелись их произведения, – но, по словам Элсуорта, это было далеко не последнее слово в искусстве, и он советовал приобрести копию какой-нибудь античной статуи. В конце концов Каупервуду удалось купить голову Давида работы Торвальдсена, которая приводила его в восторг, и несколько пейзажей Хэнта, Сюлли и Харта, в какой-то мере передававших дух современности.
Такой дом, несомненно, налагает отпечаток на своих обитателей. Мы почитаем себя индивидуумами, стоящими вне и даже выше влияния наших жилищ и вещей; но между ними и нами существует едва уловимая связь, в силу которой вещи в такой же степени отражают вас, в какой мы отражаем их. Люди и вещи взаимно сообщают друг другу свое достоинство, свою утонченность и силу: красота или ее противоположность, словно челнок на ткацком станке, снуют от одних к другим. Попробуйте перерезать нить, отделить человека от того, что по праву принадлежит ему, что уже стало для него характерным, и перед вами возникает нелепая фигура то ли счастливца, то ли неудачника – паук без паутины, который уже не станет самим собою до тех пор, покуда ему не будут возвращены его права и привилегии.
Глядя, как растет его новый дом, Каупервуд проникался сознанием своей значимости, а отношения, неожиданно завязавшиеся у него с городским казначеем, были как широко распахнутые двери в елисейские поля удачи. Он разъезжал по городу на паре горячих гнедых, чьи лоснящиеся крупы и до блеска начищенная сбруя свидетельствовали о заботливом попечении конюха и кучера. Элсуорт уже строил просторную конюшню в переулке, позади новых домов, для общего пользования обеих семей. Фрэнк обещал жене, как только они обоснуются в своем новом жилище, купить ей «викторию» – так назывался в те времена открытый и низкий четырехколесный экипаж, – ведь им придется много выезжать. Они будут давать вечера, говорил он, так как ему необходимо расширять круг своих знакомств. Вместе с сестрой Анной и братьями Джозефом и Эдвардом они будут пользоваться для приемов обоими домами. Почему бы Анне не сделать блестящую партию? Надо надеяться, что Джо и Эд тоже сумеют выгодно жениться, так как уже теперь ясно, что в коммерции они многого не достигнут. Во всяком случае, они могут попытаться.
– Разве тебе самой все это не по душе? – спросил Фрэнк после разговора о приемах.
Лилиан вяло улыбнулась.
– Я привыкну, – отвечала она.
Глава XVI
Вскоре после соглашения между казначеем Стинером и Каупервудом сложная политико-финансовая машина заработала с целью осуществления их замыслов. Двести тысяч долларов в шестипроцентных сертификатах, подлежащих погашению за десять лет, были записаны по книгам городского самоуправления на счет банкирской конторы «Каупервуд и К°». Каупервуд начал предлагать заем небольшими партиями по цене, превышающей девяносто долларов, при этом он всеми способами внушал людям, что такое помещение капитала сулит большие выгоды. Курс сертификатов постепенно повышался, и Фрэнк сбывал их все в большем количестве, пока наконец они не поднялись до ста долларов и весь выпуск на сумму в двести тысяч долларов – две тысячи сертификатов – не разошелся мелкими партиями. Стинер был доволен. Двести сертификатов, числившиеся за ним и проданные по сто долларов за штуку, принесли ему две тысячи долларов барыша. Это был барыш незаконный, нажитый нечестным путем, но совесть не слишком мучила Стинера. Да вряд ли она и была у него. Стинеру грезилась счастливая будущность.
Трудно с полной ясностью объяснить, какая невидимая, но могучая сила сосредоточилась таким образом в руках Каупервуда. Надо не забывать, что ему шел только двадцать девятый год. Вообразите себе человека, от природы одаренного талантом финансиста и манипулирующего огромными суммами под видом акций, сертификатов, облигаций и наличных денег так же свободно, как другой манипулирует шашками или шахматами на доске. А еще лучше представьте себе мастера, овладевшего всеми тайнами шахматной игры, – прославленного шахматиста из тех, что, сидя спиной к доске, играют одновременно с четырнадцатью партнерами, поочередно объявляют ходы, помнят положение всех фигур на всех досках и неизменно выигрывают. Конечно, сравнение вполне допустимо. Чутье подсказывало ему, как поступать с деньгами – он умел депонировать их в одном месте наличными и в то же время использовать их для кредита и как базу для оборотных чеков во многих других местах. В результате обдуманного, последовательного проведения подобных операций он уже располагал покупательной способностью, раз в десять, а то и в двенадцать превышавшей первоначальную сумму, поступившую в его распоряжение. Каупервуд инстинктивно усвоил принципы игры на повышение и на понижение. Он не только в точности знал, какими способами изо дня в день, из года в год он будет подчинять своей воле снижение и повышение курса городских сертификатов – разумеется, если ему удастся сохранить свое влияние на казначея, – но также, как с помощью этого займа заручиться в банках таким кредитом, какой ему раньше и не снился. Одним из первых воспользовался создавшейся ситуацией банк его отца и расширил кредит Фрэнку. Местные политические заправилы и дельцы – Молленхауэр, Батлер, Симпсон и прочие, – убедившись в его успехах, начали спекулировать городским займом. Каупервуд стал известен Молленхауэру и Симпсону если не лично, то как человек, сумевший весьма успешно провести дело с выпуском городского займа. Говорили, что Стинер поступил очень умно, обратившись к Каупервуду. Правила фондовой биржи требовали, чтобы все сделки подытоживались к концу дня и балансировались к концу следующего; но договоренность с новым казначеем избавляла Каупервуда от соблюдения этого правила, и в его распоряжении всегда было время до первого числа следующего месяца, то есть иногда целых тридцать дней, для того чтобы отчитаться во всех сделках, связанных с выпуском займа.
Более того, это, в сущности, нельзя было даже назвать отчетом, ибо все бумаги оставались у него на руках. Поскольку размер займа был очень значителен, то значительны были и суммы, находившиеся в распоряжении Каупервуда, а так называемые трансферты[22] и балансовые сводки к концу месяца оставались простой формальностью. Фрэнк имел полную возможность пользоваться сертификатами городского займа для спекулятивных целей, депонировать их как собственные в любом банке в обеспечение ссуд и таким образом получать под них наличными до семидесяти процентов их номинальной стоимости, что он и проделывал без зазрения совести. Добытые таким путем деньги, в которых он отчитывался лишь в конце месяца, Каупервуд мог употреблять на другие биржевые операции, кроме того, они давали ему возможность занимать все новые суммы. Ресурсы его расширились теперь безгранично – пределом им служили только время да его собственные энергия и находчивость. Политические заправилы города не имели даже представления, каким золотым дном стало для Каупервуда это предприятие, ибо не подозревали всей изощренности его ума. Когда Стинер, предварительно переговорив с мэром города Стробиком и другими, сказал Каупервуду, что в течение года переведет на его имя по книгам городского самоуправления все два миллиона займа, Каупервуд не отвечал ни слова – восторг сомкнул его уста. Два миллиона! И он будет распоряжаться ими по своему усмотрению! Его пригласили финансовым консультантом, он дал совет, и этот совет был принят! Прекрасно! Каупервуд не принадлежал к людям, склонным терзаться угрызениями совести. Он по-прежнему считал себя честным финансистом. Ведь он был не более жесток и беспощаден, чем был бы всякий другой на его месте.
Необходимо оговорить, что маневры Стинера с городскими средствами не имели никакого отношения к позиции, которую местные воротилы занимали в вопросе о контроле над конными железными дорогами; этот вопрос представлял собою новую и волнующую ступень в финансовой жизни города. В нем были заинтересованы многие из ведущих финансистов и политиков, например, Молленхауэр, Батлер и Симпсон, действовавшие здесь поодиночке, каждый на свой страх и риск. На сей раз между ними не существовало сговора. Правда, поглубже вникнув в этот вопрос, они, наверное, решили бы не допускать вмешательства постороннего лица. Но тогда в Филадельфии конно-железнодорожных линий было еще так мало, что никому не приходило на ум создать крупное объединение конных железных дорог, как это было сделано позже. Тем не менее, прознав о соглашении между Стинером и Каупервудом, Стробик явился к Стинеру и изложил ему свой новый замысел. Все они немало наживутся благодаря Каупервуду, и прежде всего сам Стробик и Стинер. Что же в таком случае мешает ему и Стинеру вместе с Каупервудом в качестве их представителя – вернее, тайного представителя Стинера, ибо Стробик не имел смелости открыто участвовать в этом деле, – скупить побольше акций одной из линий конной железной дороги и обеспечить себе контроль над нею? А потом если он, Стробик, сумеет добиться от муниципалитета разрешения на прокладку новых линий, то эти новые линии, как ни верти, окажутся в их руках. Правда, Стробик надеялся впоследствии вытеснить Стинера. Ну, да там видно будет. А пока что нужно ведь кому-нибудь провести подготовительную работу, и почему, собственно, этого не может сделать Стинер? В то же время Стробик понимал, что такая «работа» требует сугубой осмотрительности, ибо его шефы, конечно, всегда начеку, и, если они обнаружат, что он впутался в подобное дело ради личной выгоды, они лишат его возможности продолжать политическую деятельность, благодаря которой он только и мог наживаться. Не следует забывать, что любая организация, например, компания, владеющая одной из уже действующих городских линий, имела право ходатайствовать перед муниципалитетом о разрешении удлинять пути. Это шло на пользу благоустройству города, и потому ходатайство подлежало удовлетворению. Вдобавок Стробик не может одновременно являться акционером конной железной дороги и мэром города. Иное дело, когда Каупервуд частным порядком действует в интересах Стинера!
Примечательно, что этот план, который Стинер от имени Стробика излагал Каупервуду, в корне видоизменял позицию последнего по отношению к городским властям. Несмотря на то что с Эдвардом Батлером Каупервуд вел дела лишь частным порядком, как его агент, и несмотря также на то, что он ни разу не виделся ни с Молленхауэром, ни с Симпсоном, он все же догадывался, что, оперируя с городским займом, фактически работает на них. С другой стороны, когда Стинер явился к нему и предложил исподволь скупать акции конных железных дорог, Фрэнк по его поведению сразу понял, что тут дело нечисто и что Стинер и сам считает свою затею противозаконной.
– Скажите-ка, Каупервуд, – начал городской казначей в то утро, когда он впервые заговорил об этом деле (они сидели в кабинете Стинера в старом здании ратуши, на углу улиц Шестой и Честнат, и казначей, предвидя огромные барыши, пребывал в благодушнейшем настроении), – нет ли в обращении бумаг какой-нибудь конной железной дороги, которые можно было бы скупить, чтобы впоследствии, при наличии достаточного капитала, прибрать к рукам эту дорогу?
Каупервуд знал, что такие бумаги имеются. Его быстрый ум давно уже учуял, какие возможности кроются в них. Омнибусы мало-помалу исчезали. Лучшие маршруты конки были уже захвачены. Тем не менее улиц оставалось еще достаточно, а город разрастался не по дням, а по часам. Прирост населения сулил в будущем большие перспективы. Можно было рискнуть и заплатить любую сумму за уже существующие короткие линии, если имелась возможность выждать и впоследствии удлинить их, проложив пути в более оживленных и богатых районах. В голове Каупервуда уже зародилась теория «бесконечной цепи», или «приемлемой формулы», как это было названо впоследствии, заключавшейся в следующем: скупив то или иное имущество с большой рассрочкой платежа, выпустить акции или облигации на сумму, достаточную не только для того, чтобы удовлетворить продавца, но и для того, чтобы вознаградить себя за труды, не говоря уже о приобретении таким путем избытка средств, которые можно будет вложить в другие подобные же предприятия, затем, базируясь на них, выпустить новые акции, и так далее до бесконечности! Позднее это стало обычным деловым приемом, но в ту пору было новинкой, и Каупервуд хранил свою идею в тайне. Тем не менее он обрадовался, когда Стинер заговорил с ним, ибо финансирование конных железных дорог было его мечтой и он не сомневался, что, однажды прибрав их к рукам, в дальнейшем блестяще поведет это дело.
– Да, разумеется, Джордж, – сдержанно отвечал он, – есть две-три линии, на которых, имея деньги, можно со временем неплохо заработать. Я уже заметил, что на бирже кто-нибудь нет-нет да и предложит пакеты их акций. Нам следовало бы скупить эти акции, а там посмотрим: может быть, и еще кто-нибудь из держателей вздумает продать свой пакет. Наиболее интересным предложением мне сейчас кажутся линии Грин-стрит и Коутс-стрит. Будь у меня тысяч триста-четыреста, которые я мог бы постепенно вкладывать в это дело, я бы ими занялся. Для контроля над железной дорогой требуется каких-нибудь тридцать процентов акционерного капитала. Большинство акций распылено среди мелких держателей, которые никогда не бывают на общих собраниях и не принимают участия в голосовании. Тысяч двухсот или трехсот, по-моему, хватило бы на то, чтобы полностью забрать в свои руки контроль над дорогой.
Он назвал еще одну линию, которую со временем можно было бы захватить тем же способом.
Стинер задумался.
– Это очень большие деньги, – нерешительно произнес он. – Ну хорошо, мы еще поговорим в другой раз, – но тут же отправился советоваться со Стробиком.
Каупервуд знал, что у Стинера нет двухсот или трехсот тысяч, которые он мог бы вложить в дело. Раздобыть такие деньги он мог только одним путем, а именно: изъять их из городской казны, поступившись процентами. Но едва ли он в одиночку отважится на такое дело. Кто-нибудь стоит за его спиной – и кто же, как не Молленхауэр, Симпсон или, возможно, даже Батлер; насчет последнего у Каупервуда не было полной уверенности, если, конечно, и здесь втихомолку не орудует «триумвират». Да и что удивительного? Политические заправилы всегда черпали из городской казны, и Каупервуд сейчас думал лишь о том, как он должен вести себя в этом деле. Что, собственно, может угрожать ему, если авантюра Стинера увенчается успехом? А какие основания предполагать, что она провалится? Но даже и в этом случае ведь он, Каупервуд, действует только как агент! Вдобавок он понимал, что, манипулируя этими деньгами в интересах Стинера, он, при благоприятном стечении обстоятельств, сможет и сам для себя добиться контроля над несколькими линиями.
Больше всего он интересовался линией, недавно проложенной вблизи от его нового дома, – так называемой линией Семнадцатой и Девятнадцатой улиц. Каупервуду иногда случалось пользоваться ею, когда он поздно задерживался где-нибудь или не хотел ждать экипажа. Она проходила по двум оживленным улицам, застроенным красными кирпичными домами, и со временем, когда город разрастется, несомненно, должна была стать очень доходной. Но сейчас она еще слишком коротка. Вот если бы заполучить эту линию и связать ее с линиями Батлера, Молленхауэра или Симпсона – как только он закрепит их за ними, – тогда можно будет добиться от законодательного собрания разрешения на дальнейшее строительство. Фрэнку уже мерещился концерн, в который входят Батлер, Молленхауэр, Симпсон и он сам. В таком составе они смогут добиться чего угодно. Но Батлер не филантроп. Для того чтобы разговаривать с ним, надо иметь солидный козырь на руках. Он должен воочию убедиться в заманчивости подобной комбинации. Кроме того, Каупервуд был агентом Батлера по скупке акций конных железных дорог, и если именно эта линия сулила такие барыши, Батлер, естественно, мог заинтересоваться, почему акции ее не были предложены прежде всего ему. Лучше подождать, решил Фрэнк, пока дорога фактически не станет его, Каупервуда, собственностью. Тогда дело другое; тогда он будет разговаривать с Батлером как капиталист с капиталистом. В мечтах ему уже рисовалась целая сеть городских железных дорог, которую контролируют немногие дельцы, а еще лучше он один, Каупервуд.
Глава XVII
С течением времени Фрэнк Каупервуд и Эйлин Батлер ближе узнали друг друга. Вечно занятый своими делами, круг которых все расширялся, он не мог уделять ей столько внимания, сколько ему хотелось, но в истекшем году часто ее видел. Эйлин минуло уже девятнадцать лет, она повзрослела, и взгляды ее сделались более самостоятельными. Так, например, она стала различать хороший и дурной вкус в устройстве и убранстве дома.
– Папа, неужели мы всегда будем жить в этом хлеву? – однажды вечером обратилась она к отцу, когда за обеденным столом собралась вся семья.