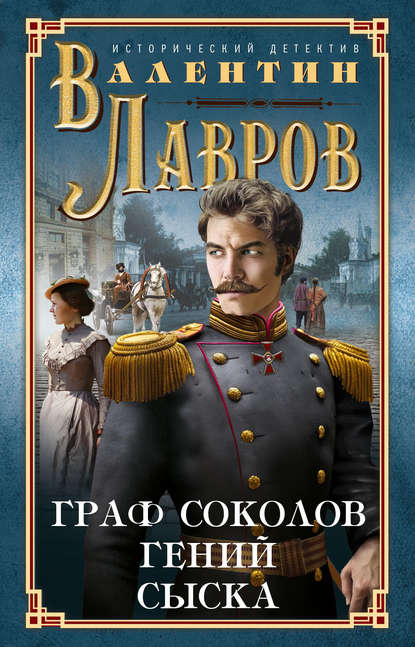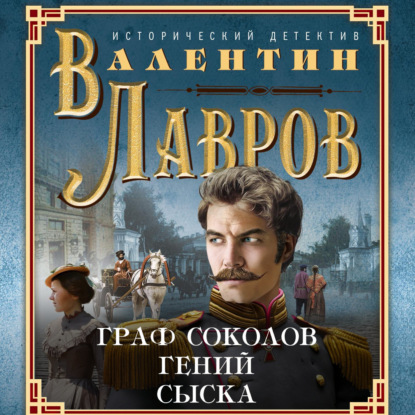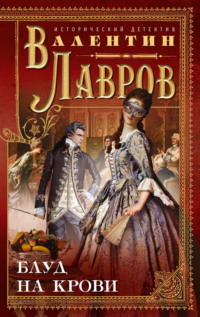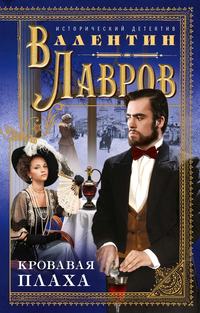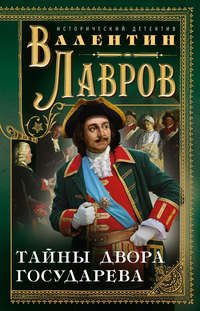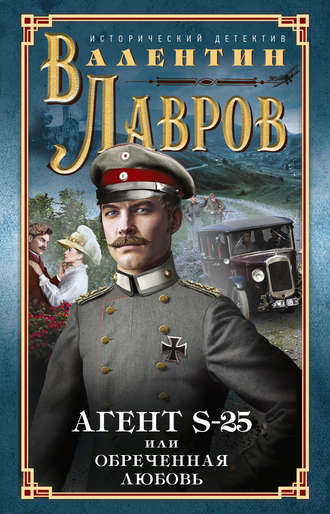
Полная версия
Секретный агент S-25, или Обреченная любовь
– Неси, любезный, все, что назвал. Да, из горячих закусок не забудь крабы в раковом соусе на сливках!
– Непременно, ваше сиятельство! Доставим-с осетрину по-царски в винном соусе под семужной икрой-с, фондю из куриных потрошков, спаржу и прочее. А какое ваше расположение насчет супа черепахового?
– Не надо. Желаем солянку рыбную, по-суворовски…
– То бишь классическую? Будет-с, собственной персоной в лучшем виде-с… На горячее второе удовлетворение вам составит севрюга запеченная?
– Пусть! Только присовокупи деваляй из дичи под белым соусом, финляндскую форель натурель, полдюжины маленьких цыплят, артишоки в горшочке…
Перечень блюд был обширным. Желаю и моим читателям так иногда гулять-с.
* * *Не прошло и получаса, как большой стол в гостиной был заставлен бутылками, тарелками, серебряными приборами. Ароматно пахло осетриной и раками. Выпили по первой – за государя-батюшку. Вторую – за Русь великую и победу над супостатами.
Соколов сказал лакеям, статуями стоявшим вдоль стен:
– Оставьте нас и без вызова не входите!
Знаменитый гость
Едва остались вдвоем, как вдруг в дверь громко постучали. Вера Аркадьевна вся сжалась:
– Уже за мной? Арестовывать?
На пороге показался высокого роста, несколько сутулый, рыжеватый господин лет пятидесяти. На господине был дорогой костюм, и он внимательно рассматривал уклончивыми зелеными глазами обильную трапезу.
Соколов широко улыбнулся, пошел навстречу:
– Какой приятный сюрприз! Сам «властитель дум» Алексей Максимович…
Глухо откашлявшись, Горький проокал:
– Понимаете, под вашими дверями ресторанные официанты дежурят. От них узнаю: ожидают распоряжений графа Соколова. А я остановился в соседнем номере. Соображаю: надо посетить старого знакомца. Ну, граф, здравствуйте! – И он большими, мягкими руками долго жал кисть Соколова. – Позвольте вас облобызать. Ведь вы, граф, чудное явление русской жизни, полная противоположность ее сытой глупости. А с вами, граф, поди, уже с год не виделись?
– Почти два.
Горький покачал головой.
– Вот оно, время стремительное, словно песок золотой промеж пальцев утекающий! – Вздохнул. – Однако это не время, это сама жизнь бежит – на следующий год мне уже пятьдесят, подумать страшно. Да, припоминаю: во время последней встречи мы стали свидетелями безобразий Григория Распутина. – Горький уставился на Веру Аркадьевну. – Понимаете, он в московском «Яре» устроил похороны русалки: голую девушку в гроб положил и шампанским поливал. Это придумать надо! Очень весело гулял старец, конец свой предчувствовал. Простите, сударыня, мои фривольные воспоминания. Позвольте, сударыня, поцеловать вашу руку. Доложу вам, у графа очень хороший вкус… Он хоть и сыщик, но в женской красоте толк понимает! Впрочем, припоминаю, мы уже встречались, ваше красивое лицо мне знакомо.
Вера Аркадьевна, нисколько не тушуясь двусмысленностью положения, просто сказала:
– Я с вами, Алексей Максимович, встречалась в начале июля четырнадцатого года в Царском Селе. Тогда был большой прием французского президента Пуанкаре…
Горький, как крыльями, взмахнул руками:
– Конечно, конечно! Это когда пришвартовалась французская эскадра, отлично помню.
– Вы в тот день долго беседовали с моим мужем фон Лауницем…
Соколов деликатно прервал воспоминания:
– Алексей Максимович, сделайте одолжение, поужинайте с нами!
Горький втянул воздух большими ноздрями утиного носа, поплевал на пальцы, погладил рыжие усы.
– Согласен, если, конечно, не помешаю. – Тряхнул волосами, прядями упавшими на лицо. – Понимаете, стол ваш – творение рук талантливых, очень заманчив, как, скажем, красота женская. – Огляделся. – И в номере очень уютно, вполне по-домашнему. Но, право, я вам не помешал? Спасибо, спасибо… А в ресторанный зал мне лучше не выходить: бросают есть и зенки уставляют на меня, будто я чудище озорно и стозевно. Противно, право, от ненужного и праздного внимания к моей персоне.
Меткий стрелок
Горький, верный привычке, пил дорогие красные вина из Франции, угощал Веру Аркадьевну, поднимал бокал.
– Природа столь хитро создала женщин, что нет возможности не попасть в их плен – сладкий, дурманящий. Но и любят они бешено, самозабвенно, до исступления. – Прикрыл веки. – Боже, что за существа удивительные… Много несуразного и глупого делаем ради женщин. Вера, позвольте поднять бокал за вас – прекрасную представительницу лучшей половины рода человеческого.
Выпили.
Горький продолжал:
– Впрочем, люди вообще существа несуразные. Вчера поздним вечером вернулся в «Асторию». Пустынно, постояльцы, стало быть, спят. Поднялся я на второй этаж, гляжу: известный ученый, преподаватель Московского университета, меня не замечая, идет по коридору, пританцовывая, ногами кренделя выделывает. Или вот гостил когда-то у Чехова в Ялте. Утро раннее, все еще в подушки сопят, а я вышел на крыльцо. Смотрю, что такое? Антон Павлович ловит шляпой солнечного зайчика. Поймав, пытается оного вместе со шляпой на голову надеть. И очень сердился, что не получается. Умора!

– Это к чему разговор клоните? – спросил Соколов.
– А к тому, что люди – с большими отклонениями в мозгах. Вот, к примеру, кому нужна нынешняя война? Кому принесет пользу? Да никому! Понимаете, оторвали молодых хороших мужиков от дома, от жен, посадили в окопы, научили убивать. Ожесточатся они, больными душой вернутся в семьи. И не работники, и не отцы будут – хлам человеческий, да и только. Доложу вам, голубчики, – в бездну глубокую катимся.
Вера Аркадьевна усмехнулась:
– Что-то мрачно смотрите на мир, Алексей Максимович!
Горький решительно отозвался:
– Мрачно? Конечно! А как по-другому? Чувствую тревогу и мучительный стыд за Русь, за русского головотяпа, который в трудный день жизни непременно ищет врага своего где-то вне себя, а искать его надо в бездне собственной глупости. У русского вообще все виноваты, особенно евреи. – Горький откашлялся и с вдохновением продолжал: – Я убежден, я знаю, что в массе своей евреи – к изумлению моему – обнаруживают любви к России больше, чем многие русские. Да-с! Слишком много на Руси несуразных людей, а война их число увеличит. Еду в поезде, на станции Волхов влез в вагон солдат. На груди – Георгий. У нас в купе уже сидело шесть человек. Он внимательно осмотрел нас, сосчитал: «Шестеро, правильно! Однако герою место следует предоставить!» – и растолкал коленом пассажиров, втиснулся на скамейку. Разговор возник. Солдат всячески войну расхваливает: от нее, дескать, оживление жизни и во все стороны свободный ход. Про себя солдат говорит: «Очень удивляюсь подвигу моему. Мне от Бога утешение – меткий глаз и верная рука. Сижу в окопчике и в перископ за немцами наблюдаю. Зрю – вражеская фигура, прицеливаюсь из винтовки, щелк – готов еще один. Прямо сознаюсь: я немцев столько укокошил, сколько иной охотник за всю жизнь зайцев не настрелял. Один раз в день я восемь штук уложил. Так-то! Война – это очень полезно!» Герой с чувством собственного достоинства сплюнул на пол, глаза у него глядели спокойно и уверенно.
Вера Аркадьевна вздохнула:
– Кончится война, этот стрелок что будет делать?
– Землю не станет пахать! – замахал руками Горький. – При таком своеобразном таланте путь один – снова идти и убивать. Войны тем плохи, что людей портят. – Горький назидательно поднял палец. – Вот убивает этот стрелок ради русского царя, народа своего не знающего, и ради жирного попа, волос прямым пробором расчесывающего. А стоят ли царь и поп того, чтобы ради них убивали? – Помолчал, опустил кулак на стол. – Не стоят они того!
Соколов резко возразил:
– Понятия такие есть: народ, нация, государство! А государь и православная церковь – стержень, на котором все держится. Сломайте стержень – все прахом пойдет, все рассыплется.
Горький взмахнул рукой, уронил на пол нож, зеленоватые глаза яростно заблестели. Он пробасил:
– Ан нет! Почему народ должен рассыпаться? Не понимаю! Останется русский человек, новые формы отношений создаст, новую мораль – без поклонения монарху, без церковного дурмана, – поднял вверх палец, – без эксплуатации. Разбудит народ свою энергию скрытую, освободится от мещанской сытости и векового благодушия…
– И создаст новую религию и новых богов, – иронически усмехнулся Соколов. – Как говорят в Москве: тот же вид, но только сбоку.
Вера Аркадьевна весело рассмеялась, а Горький вдруг улыбнулся:
– Народ наш, во всяком случае, как пил водку, так и будет пить. Не остановится! Давайте и мы выпьем вина.
Выпили.
Размолвка
Вдруг у Горького сошла улыбка с лица, он свирепо нахмурился, опустил тяжелый взгляд к полу. Вытер желтыми от курения пальцами рыжеватые усы, твердо и назидательно произнес:
– При всех общественных переменах останется страшная болезнь. Вы спросите: о чем это я? А говорю я об отношениях между национальностями. Знаменитый бактериолог, европейская знаменитость, днями поведал мне: «В присутствии некоего генерала, человека вроде бы серьезного, я сказал, что хорошо бы достать несколько обезьян для моих опытов. Генерал серьезно спросил: „А жиды не подойдут? У меня, кажется, есть несколько жидов-шпионов, их все равно вешать, а вам – на пользу науки и просвещения!“ И приказал дежурному офицеру: „Сбегайте, подпоручик, выясните, сколько осталось жидов не по-вешенных“». Поручик убежал.
Стал ученый доказывать: «Для моих опытов люди не годятся…» Генерал вытаращил глаза: «Как – не годятся? Он, хоть и жид, все-таки умнее обезьяны. Если вы ему впрыснете яд, он вам скажет, что чувствует, а обезьяна – нет! Берите жидов, пока даю!»
Вернулся подпоручик, докладывает: «Среди арестованных евреев не осталось, зато есть цыгане. Доставить?» Генерал спрашивает: «Цыгане не годятся? Ах, жаль!» Это генерал так рассуждает, а что говорить о простых людях? Хотя я ничего плохого не сделал людям этой изумительно стойкой расы, а все-таки стыдно за себя, за свое родство с изуверской сектой антисемитов и свою ответственность за идиотизм соплеменников.
Вошли два официанта. На большом серебряном подносе внесли жареного поросенка. Он был покрыт нежно-розовой корочкой и испускал дразнящий аппетит запах.
Официант склонился к Горькому:
– Желаете?
– Обязательно! И белый соус не забудь… – Продолжил свою мысль: – Я внимательно прочитал кучу книг, в которых обвиняют евреев во всех смертных грехах. Это отвратительная обязанность – читать книги, созданные с целью опорочить целый народ. В этих книгах мало смысла, но много моральной безграмотности, злого визга, звериного рычания и завистливого скрежета зубовного.
Слушатели приступили к крабам. Горький поднял бокал:
– Предлагаю выпить за Русь обновленную, без монархического произвола, но с демократическим строем, с Учредительным собранием и с равноправием для всех народов!
Соколов отрицательно покачал головой. Твердо глядя в глаза Горькому, сказал:
– От добра добра не ищут. Русь процветает и развивается во всех отношениях, а мои предки с незапамятных времен российским царям верой и правдой служили. Того и своим потомкам желаю.
– Это ваше дело, – усмехнулся Горький, – а мои предки пили горькую, жен, даже беременных, с изуверской жестокостью до полусмерти били. В отличие от вас, граф, мне такое положение вещей в этом мире не нравится. – И он, смакуя, выпил вино.
Соколов иронически усмехнулся:
– Конечно, русские цари виноваты в изуверстве ваших предков!..
Горький посмотрел куда-то вбок и сквозь зубы выдавил:
– Ну, вы-то всегда были монархистом! – Он неприязненно замолчал, и эта пауза сделалась тяжелой. Казалось, знаменитый на весь мир писатель сейчас поднимется и уйдет не попрощавшись.
Но, знать, судьбе была нужна эта короткая размолвка, ибо, как ни странно, она дала нашей истории новый ход.
Цыгане из Курска
Горький, не желая продолжать спор с Соколовым, обратился к Вере Аркадьевне с дежурным вопросом:
– Скажите, сударыня, как поживает ваш муж?
Вера Аркадьевна спокойно отозвалась:
– Муж сейчас мало бывает в Берлине. Война требует его присутствия в передовых частях. Знаю, что в конце февраля – начале марта он прибудет на позиции генерала Бом-Ермоли. Когда Ермоли был у нас в гостях, они с мужем это обсуждали. А мне возвращаться в Германию совершенно не хочется. Там, в преддверии военного краха, стало как-то неуютно.
Соколов, услыхав о командировке фон Лауница, внутренне встрепенулся. Ему пришла блестящая мысль. Он стал нетерпеливо дожидаться ухода гостя.
Но в это время в дверь громко постучали. Вновь появился метрдотель, сладко проворковал:
– Дорогие гости, для вас хотят сплясать и спеть хор цыганов из города Курска!
И тут же с криками и возгласами влетела разноцветная цыганская толпа. Она закружилась в гостиной, под гитарные переборы задорно выкрикивая:
Не будите молодуРанним часом поутру.Горький словно помолодел, морщины на его грубом лице разгладились, глаза смотрели весело, даже озорно. Он с улыбкой слушал цыган, прихлопывая в ладоши и негромко подпевая.
Песенно-плясовая вакханалия продолжалась почти полчаса. Соколов дал цыганам денег, и они, прихлопывая и притопывая, двинулись из гостиничного номера восвояси.
Горький с восхищением произнес:
– Цыгане и итальянцы – самые музыкальные на свете люди. Сколько в них какой-то первобытной непосредственности и прекрасного озорства. Ну, впрочем, и мне пора. – Он поднялся, вполне дружески протянул Соколову руку, прогудел в нос: – Конечно, по-разному мы мыслим. Такое в порядке вещей. Но кто исторически окажется прав? Это покажет время. Спасибо, друзья, за прекрасный ужин. Устал нынче. Пойду в номер и буду долго спать.
Вера Аркадьевна капризно надула губки:
– Алексей Максимович, почему вы нас к себе в Сорренто не зовете? Вы хотя писатель пролетарский, а дворец, говорят, у вас там царский?
– Наветы все, наветы, барышня! Никогда не слушайте речи лукавые. А когда попаду в Сорренто – сам того не ведаю, ибо в мире бушует жестокая война. Теперь же спешу возлечь на ложе. Я ведь приказал никого к себе не впускать, а то ведь и ночью почитательницы могут вломиться. Выпьют вина и про все приличия забудут, голову потеряют. Вот и дежурит у моих дверей гостиничный служка, за порядком наблюдает. До свидания!
Изменение маршрута
Уже лежа в постели и нежно поглаживая громадной теплой ладонью упругие груди Веры Аркадьевны, губами лаская соски, Соколов как бы невзначай спросил:
– Неужели твой муж такой отчаянный, что не боится по фронтам ездить? Или он в тыловых войсках только бывает?
Вера Аркадьевна резво отозвалась:
– А чего бояться? Мой муженек говорил, что, пока дороги не подсохнут, никаких активных военных действий не будет.
Соколов продолжал выпытывать:
– Ты знаешь, где конкретно фон Лауниц будет на фронте?
– Как не знать! Я сказала: поедет в армию к генералу Бом-Ермоли. У мужа в кабинете большая карта военных действий на стене висит, он там красным карандашом и флажками все тщательно отмечает. Когда достал мне швейцарский паспорт, то подвел к карте, ткнул пальцем в Москву, сказал: «Ты вот где будешь, а я недалеко от Карпатских гор…»
– А он место назвал, куда командируется?
– Где штаб Бом-Ермоли? Как же, они за столом раз двадцать его название повторили – на высоком берегу Быстрицы, против городка Богородчаны. Да тебе, милый, зачем это?
– Хочу навестить его и привет от тебя передать! – весело произнес Соколов и рукой придвинул к себе Веру Аркадьевну. – Ну, лягушечка, ты еще в состоянии принимать мужские ласки?
– Твои – хоть до изнеможения. С грустью мыслю, что миг сей сладостный быстро пройдет и я останусь опять без тебя. Печальна доля женская!
* * *Утром Соколов направился к начальнику российской разведки Батюшеву и настаивал на изменении плана.
Батюшев внимательно выслушал, что-то записал в свой блокнот и сказал:
– Мне надо кое с кем посоветоваться. Изменение плана в последний час – такое не любят. Но я понимаю: возникли новые обстоятельства, и постараюсь убедить руководство. Приходите на «кукушку» в шесть вечера.
– И другое. – Соколов напряженно посмотрел в лицо полковника. – Сейчас Мартынов гоняется за известной вам Верой фон Лауниц, которая нелегально проникла в Россию с паспортом Софьи Бланк, подданной Швейцарии. Эта женщина оказала российской разведке большие услуги.
Батюшев насторожился:
– С какой целью проникла?
Соколов невозмутимо отвечал:
– Чтобы увидать меня.
– И все? – На физиономии Батюшева отразилась непередаваемая гамма чувств – от удивления до зависти. Махнул рукой. – Впрочем, влюбленная женщина может выкинуть такой фортель. И что вы хотите?
– Чтобы наша разведка оказала своему проверенному сотруднику Вере фон Лауниц необходимую поддержку.
– Хорошо, сделаю все от меня зависящее. Приходите на «кукушку» в шесть вечера.
Когда в указанное время Соколов появился на конспиративной квартире, Батюшев уже поджидал его. Он сказал:
– Наш новый план одобрен. Отправляетесь завтра из Москвы военным эшелоном по маршруту Москв – Смоленск – Орша – Минск. В Минске будет сформирован отряд, в который войдете и вы, – об этом мы побеспокоились. С отрядом по железной дороге двинетесь далее – в штаб армии Юго-Западного фронта, которым командует генерал Гутор. Вас припишут к разведывательному полку. Вот вам новое предписание. О вашей миссии, как вы настояли, знает лишь самый ограниченный круг лиц. – Батюшев долго глядел в лицо Соколова, пожал ему руку. – Удачи вам, Аполлинарий Николаевич! Я верю в вас…
– А что с Верой?
– Ее оставят в покое.
Батюшев умолчал о сюрпризе, который он приготовил для гения сыска. Читатель своевременно узнает о нем.
В тот же вечер десятичасовым поездом Соколов отбыл в Москву. Он хотел хоть краткое время побыть с женой Мари и сыном Иваном.
Долгий взгляд
В субботу 28 января 1917 года Соколов прибыл в Москву на Николаевский вокзал. Как обычно, он был одет в полковничью шинель, по перрону ступал широко и стремительно, левая рука, по гвардейской привычке придерживать шашку, была словно привязана к бедру.
Носильщик, едва поспевая, тащил за Соколовым большой кожаный чемодан. Москва, древняя, громадная и людная, с множеством колясок и тяжелогруженых возов, с пестрой толпой прохожих, была засыпана свежим обильным снегом и казалась городом волшебной красоты из детской сказки.
Дворники деревянными лопатами собирали снег возле тротуара в большие кучи. Городовые, придерживая шашку, прохаживались возле своих будок, разглядывая бесконечную череду пешеходов, готовые в любой момент задержать подозрительное лицо. Разрезая пополам вокзальную площадь, несся трамвай, и пешеходы суетливо перебегали через рельсы. Испуская резкие звуки клаксоном, из вокзальных ворот выезжал санитарный автомобиль, и на льду пробуксовывали колеса с металлическими спицами.
Чемодан был положен в небольшие саночки. Извозчик, молодой парень на деревяшке вместо ноги, забрался на облучок, дернул вожжи. Саночки выехали на Каланчевку, оставили справа старинную и узкую, как пожарная кишка, Домниковскую улицу, прокатили мимо гостиницы «Петербург». Невысокая, крепкая лошадка с лоснящимися боками стучала подковами по наезженной дороге, и порой снег срывался с задних копыт и летел в седоков. Наконец сбавив ход, лошадка стала подниматься в гору.
И вот предстало в своей древней красе великолепное творение Дмитрия Ухтомского – Красные ворота с трубящим архангелом на шпиле. Повернули направо, мимо трехэтажного дома с угловыми балконами – здесь осенью 1814 года родился поэт Лермонтов.
Открылся дом под номером 19 по Большой Спасской, с громадной рекламой шоколадной фабрики Эйнема, занимавшей почти всю торцовую стену.
Старый знакомец, дворник Платон, старательно царапал скребком по тротуару, испуская отвратительные звуки и не обращая внимания на сыщика. Соколов не упустил случая подтрунить над Платоном. Он дал ему под зад пинка, страшным голосом крикнул:
– Чего, старый пень, тишину нарушаешь?
Подслеповатый Платон, оскорбленный в чувствах, не сразу разглядев гения сыска, прогундосил:
– Зачем деретесь? Если каждый прохожий под зад пинать станет… Вот свистну сейчас городового. – И вдруг узнал Соколова, торопливо сдернул с ушей баранью шапку и выкрикнул фистулой: – Здравия желаю, ваше сиятельство. Аполлинарий Николаевич! Простите, не сразу признал вас. Дозвольте чемоданчик поднести…
Три года назад, в декабре 1913-го, проведав о доносе дворника, Соколов засунул Платона головой в унитаз. По необъяснимой логике, с той поры барина с шестого этажа дворник полюбил еще сильней.
* * *Как всегда после долгой разлуки, в доме начался переполох.
Мари, счастливо улыбаясь, ласково провела теплой ладошкой по щеке мужа:
– Вас, Аполлинарий Николаевич, узнать трудно… В вашем облике появилось что-то новое. Вы стали похожи на античного героя.
Соколов обратил внимание на новое лицо, скромно стоявшее в коридоре, – полноватую, с пышным бюстом девицу в скромном темном платье, лет девятнадцати. Она с любопытством поглядывала на атлета и удерживала за руку вырывавшегося сына, строго выговаривая:
– Иван Аполлинарьевич, ведите себя прилично!
Мари представила:
– Это воспитательница Вани – Елена Гавриловна. Она учит русскому и французскому языкам, а также игре на фортепьяно и хорошим манерам.
Девица сделала изящный книксен, а Ваня воспользовался заминкой, вырвался, бросился к отцу и в мгновение ока, не без папашиной помощи, вскарабкался ему на плечи. Он гладил лицо и целовал отцовскую щеку, приговаривая:
– Ой, папочка, как я о тебе скучал, даже плакал один раз.
– Сынок, нам плакать не пристало, пусть плачут наши враги. Но почему Лукерья сейчас слезы льет?
Горничная прижалась лицом к плечу гения сыска:
– Наконец-то сокол наш ясный объявился! Разве дело – дом без хозяина? Это все равно что лампадка без фитиля. Но теперь заживем по-человечески…
– Эх, Луша, Россия не то место на земле, где можно нынче жить по-человечески. Душ включи да обед скорее на стол ставьте.
– Чёй-то душ? – удивилась Лушка. – Дорожному человеку, поди, теплую ванну принять полезней…
– Нет времени лежать в ванне.
Лушка побежала зажигать колонку и готовить барину свежее белье.
Мари округлила глаза:
– Как, опять уезжаете?
– У меня всего два свободных часа.
– Но почему?
Соколов развел руками и сказал лишь одно слово:
– Служба!
Мари от досады аж застонала, повела мужа в гостиную:
– А я размечталась: любимый приехал навсегда… Господи, когда кончится эта война?
– Скоро, дорогая! Но начнется другая – с уголовными преступниками. После войн их всегда много разводится. Веришь, я часто скучаю по своей службе в уголовном сыске. Какие там замечательные были ребята – покойный друг Коля Жеребцов, Юра Ирошников, Кошко, Гриша Павловский.
Мари вздохнула:
– Даже не верится, что заживем мы, как прежде: каждый день будем видеть вас, милый папа и любимый муж.
Соколов взял жену за руку, поцеловал ее ладонь:
– Милая Мари! Пожалуйста, присядем на минуту.
Мари удивленно взглянула на супруга: слишком необычным тоном он обратился к ней.
Они сели на кожаный диван с высокой спинкой. Соколов, не выпуская руку супруги, произнес:
– Тебя, мой друг, уже в ближайшие дни ждет тяжелое испытание.
Она чуть побледнела:
– Что-то случится с вами?
– Да, со мной. Увы, я тебе не могу ничего объяснить, ни слова. Все, что я могу сделать, – посмотреть в твои глаза. Мне очень хочется, чтобы ты все поняла без слов…
Он долго глядел в ее темные, бездонные, словно загадочное ночное небо, глаза, полные какой-то вековой женской тайны.
Сдавленным голосом она сказала:
– Храни вас Бог, а мое сердце навсегда отдано вам…
В дверь постучала Лушка, улыбнулась во весь рот:
– Барин, я колонку зажгла, душ пустила, полотенца приготовила…
Никогда так время стремительно не бежит, как в родном доме перед отправкой на фронт.
Прощай, любимый город
Веселая поездка
В Москве задувала метель. Ветер неистово мел по мостовой, подымая и яростно бросая в лицо снежную крупу. Пешеходы зябко втягивали шею и спешили укрыться в тепле.
Москва на четвертом году войны изрядно изменилась. Мужское население призывного возраста прорубало туннели в глубоких снегах под Краковом и Львовом, ходило в контрнаступления на Австро-Венгерском фронте, форсировало ледяной Дунаец в Галиции, отчаянно било врага на Румынском фронте возле Серета и у Фокшан, теснило противника на Риго-Двинском фронте, а трупы молодых и сильных мужиков ложились в землю на всем громадном пространстве от Балтийского до Черного моря.