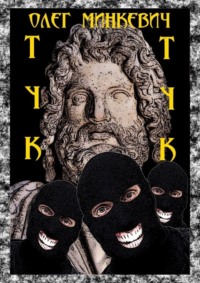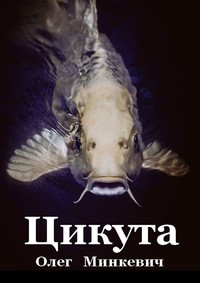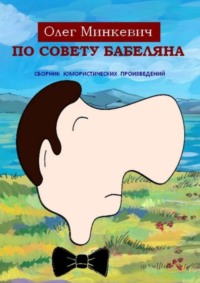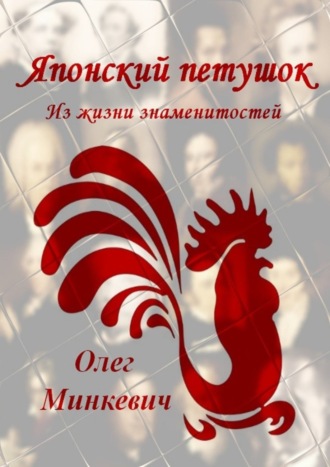
Полная версия
Японский петушок. Из жизни знаменитостей
– Что? – Бетховен наклонился, пытаясь разобрать слова.
– Я спрашиваю: что здесь происходит? – надрываясь, повторил управляющий и указал рукой на сероватое облако пыли, медленно выползавшее из квартиры.
Бетховен, наконец сообразив, что от него хочет этот надоеда, сказал:
– Пробиваем окно на Дунай.
– Что? Дунай? Какой Дунай? – оторопел управляющий. – Вы что, дырявите стену?
Управляющий поспешно вошёл внутрь и в витающей пыли разглядел пробивающего стену рабочего, усердно орудовавшего молотом и ломом.
– Прекратите! – вскричал управляющий. – Что вы делаете?!
Рабочий остановился и недоумённо поглядел на кричащего человека.
– Это же собственность господина Пасквалати! – продолжал возмущаться управляющий. – Как можно без ведома и разрешения владельца повреждать его дом?
– Я плачу деньги! – взревел Бетховен. – Это моё право! И вы нарушаете его, не давая пробить окно в этой тёмной конуре, которая не стоит заплаченных за неё денег… Всё, я немедленно съезжаю. Довольно с меня дураков!
Бетховен сплюнул размокшую на языке пыль и вышел из квартиры.
– Постойте, господин Бетховен! Погодите! – кричал ему вслед обруганный управитель. Всё было безуспешно. Ибо «Великие Моголы» не слышат мольбы, а глухие – подавно.
Глупость и закон
Глупость – одна из самых мощнейших движущих сил. Человеком натворено много глупостей, в перспективе – не меньше. Ковка глупости процесс безостановочный, и бог знает, когда он запустился, сколько глупости произвёл и будет ли когда-нибудь остановлен, а главное – кем. Институты статистики глупостью не занимаются и глупости не считают, и уже за эту малость хочется их поблагодарить.
Разнообразие глупостей поражает. Однако из всех глупостей особенно примечательна глупость узаконенная, утверждённая росчерком полномочного пера, именно о ней и пойдёт речь.
В 1511 году в священной Мекке разгорелся довольно интересный спор о пользе и вреде кофе. Казалось бы, что здесь удивительного? Каждый день выползшие из тайных подземных лабораторий учёные, отчитываясь о потраченных средствах, говорят нам о пользе и вреде того или иного продукта. Однако в Мекке спорили не учёные, а богословы и чиновники. «Он извращает ум, сбивает с праведного пути и, как следствие, приводит к бунту», – утверждали озабоченные противники напитка. И таковых, к сожалению, оказалось больше. Кофе был признан вредоносным питьём, угрожающим религиозным догматам и государственному строю, и был запрещён.
Сходная история случилась в середине 18-го столетия в Швеции, где вместе с кофе в немилость попала и кофейная посуда, которую хладнокровные стражи порядка с чувством долга изымали у преступных горожан, осмелившихся не внять королевской букве закона.
Вообще, кофе частенько не везло. Его пытались запретить и запрещали в разных странах, и причины этих запретов были чаще всего несуразны и глупы.
В России, несмотря на многократные соборные проклятия, адресованные церковью этому настрадавшемуся напитку (от клириков прилично досталось и чаю), к кофе отнеслись по-либеральному. Царь-батюшка Пётр Великий привёз кофе на родину через «пробитое окно» и, побрив боярам бороды, наказал его пить. Пили все (а попробуй у Петра не выпей!), кто нехотя, кто с любовью. Эстафету почитателей кофе переняли наши пышнотелые императрицы, частенько взбадривавшие себя дымящейся чашкой напитка. Так постепенно, начавшись с принуждения (что тоже немалая глупость), сложилась кофейная традиция.
Но коль речь зашла о милом отечестве, сказав о разрешённом, трудно умолчать и о запретах, коих на Руси всегда доставало.
В марте 1816 года Егор Антонович Энгельгардт, талантливый педагог и человек неоскудного ума, заступил в должность директора Императорского Царскосельского лицея, того самого, в котором учился наш «повеса вечно-праздный» и другие незаурядные юноши, в том числе и Антон Антонович Дельвиг, сын обрусевших немцев. 7
С приходом Энгельгардта пришли и послабления, были отменены некоторые запреты. Лицеистов, чьи семьи проживали в Петербурге, стали отпускать на каникулы. Кроме того, ученикам разрешили прогулки в пределах Царского Села, чем вольнолюбивые подростки не преминули воспользоваться. Знакомство с хорошенькими девушками и правилами света было первостепенной задачей истомлённых поэтичных юнцов.
– Антуан, правда, что вы пишете стихи? – вопрошала молоденькая кокетка, прогуливаясь под руку с неуклюжим кавалером.
– Да, Натали, это правда… – отвечал ей лицеист Дельвиг. – О, как вы прекрасны!
Девушка смеялась и краснела.
– Антуан, вы – немец. Это правда, что вы не знаете ни словечка по-немецки? – интересовалась другая кокетка на другом свидании.
– Ja-Ja, – говорил Дельвиг и, целуя тоненькую ручку, добавлял: – О, как вы прелестны, Мари!
Девушка смеялась и краснела.
– Антуан, вы бы смогли вонзить кинжал медведю в самое сердце? – с горящим взором спрашивала третья кокетка на третьем свидании.
– Вы суровы, Элен. Но ради вас – всё что угодно. Как вы чудесны! Как чудесны! – повторял Дельвиг, глядя на предмет своего обожания полузрячими глазами.
Да, зрение у Антона Антоновича было, что называется, ни к чёрту. А устав Царскосельского лицея запрещал публичное ношение очков… даже тем, у кого в том была необходимость. Егор Антонович Энгельгардт, принёсший в лицей некую либеральность, не отменил этот нелепый запрет. Очкарики на ту пору в высшем свете почитались за дурных людей, не уважающих общественные обычаи. Проблема «слепцов», само собой разумеется, заботила только их, но и им приходилось считаться с обычаями. Так и проучился барон Дельвиг вплоть до выпуска, многого не разглядев.
Выйдя из лицея и надев наконец очки, Антон Антонович вновь встретился с царскосельскими кокетками и тут же пожалел, что смотрит полноценным взглядом.
«Как я разочаровался…» – позднее вспоминал Дельвиг.
Вот оно, одно из последствий узаконенной глупости.
Месть художника
Леса были разобраны на три четверти. Микеланджело стоял напротив фрески и, устало опустив веки, вытирал руки замызганным лоскутком, пропахшим краской и потом. Суровые образы «Страшного суда» белели на голубом фоне алтарной стены, соседствуя с потолочной росписью двадцативосьмилетней давности.
Уже несколько лет заматерелый художник проводит дни в Сикстинской капелле, корпя над фреской на апокалипсический сюжет. Картина божественного возмездия, долженствующая устрашить заблудшего и маловера, неторопливо растёт, дополняясь новыми фигурами. Карающих, караемых и блаженных Буонарроти изображает нагими, не удосуживаясь прикрыть срамную телесность ни повязкой, ни листком.
Когда Микеланджело поднял глаза на алтарную стену, чтобы разглядеть детали своей фрески, в капелле появились папа Павел III и его церемониймейстер Бьяджо да Чезена. Смуглое кривоносое лицо постаревшего мастера моментально посуровело: он не любил, когда любопытные глаза делают оценку неоконченного труда. В такие минуты художник легко выходил из себя, он мог не задумываясь надерзить и даже прибегнуть к физическому воздействию, что ощутил на себе однажды воинственный Юлий II, в которого рассерженный Микеланджело, топоча и бранясь, бросал с лесов доски, когда его святейшество, проявив нетерпение, явился в капеллу с целью рассмотреть и разузнать.
Увидев папу и его церемониймейстера, Микеланджело, гневно сжав замызганный лоскуток в жилистой руке, сердито проговорил:
– Я же просил, чтобы никто сюда не заглядывал, пока фреска не будет окончена.
– Не гневайся, сын мой, – умиротворяюще произнёс папа. – Нас привело любопытство. Господь сказал: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдёт в него. Мы любопытны, как любопытно дитя, вылезшее из колыбели. 8
Благостный тон папы удержал буйствующие порывы Микеланджело, но не придал миролюбия его огрубелому, морщинистому лицу.
Взглянув на алтарную стену, заполненную больше чем наполовину изображениями обнажённых тел, Бьяджо да Чезена вытаращил глаза и издал неразборчивый возглас, выражавший неприятное чувство. Папа промолчал.
– Ваше святейшество, это возмутительно! – негодующе сказал папский церемониймейстер и хотел было стыдливо заслониться ладонью от неблагочестивых образов, источающих разрушительный порок, но неожиданно его внимание привлекла одна из женских фигур с голиафскими формами, соответствовавшими тайному вкусу целомудренной церемониймейстерской души. Чезена сглотнул слюну и повторил, уже, однако, не так негодующе: – Это возмутительно…
Папа продолжал молчать.
– Почему они голые? – жестикулируя, вопрошал Чезена. Его быстрые глазки метались по всем углам капеллы. – Я не понимаю. Это храм Господень или баня? Буонарроти, вы что себе позволяете? Это немыслимо, в ваших-то летах писать такое. Это художество в угоду еретикам и блудодеям. Наша святая матерь римская католическая церковь веками учит скромности и целомудрию, а вы прямо в святой обители воздвигаете оплот греха. Это возмутительно!
Микеланджело ещё крепче сжал в руке замызганный лоскуток; в тишине послышался хруст напряжённых пальцев. Негодование художника возрастало.
– Пойдём, Бьяджо, – заторопился папа, предчувствуя грозу, – оставим мастеру его заботы. Кесарю кесарево…
Осенью 1541 года, в канун Дня всех святых, фреска Микеланджело «Страшный суд» официально стала доступна для обозрения. Павел III с двумя десятками учёных кардиналов и благочестивым церемониймейстером Бьяджо да Чезеной явились в Сикстинскую капеллу, дабы дать свою оценку работе художника. Святые отцы разглядывали обнажённых персонажей, порицательно покачивали головами, почёсывали римские носы золотыми перстнями и, краснея то ли от стыда, то ли от возмущения (а может быть, по совсем иной причине), изрекали суждения на загадочной латыни.
Бьяджо да Чезена, видевший в микеланджеловской росписи, как и прежде, лишь посрамление Божьей обители, хорошенько присмотревшись к фреске, впал в оцепенение: в правом нижнем углу, среди грызущихся нечестивцев, он обнаружил себя. Микеланджело изобразил папского церемониймейстера в образе царя Миноса, украшенного парочкой ослиных ушей и заключённого в тугие объятия гигантского змея.
– Это возмутительно! – зароптал Чезена. – В каком виде изображён наш Спаситель! И это в церкви, в Божьем храме!
Папский организатор, получивший ощутимый укол от художника, решил во что бы то ни стало отвлечь внимание публики от преисподней и сосредоточить его на верхней части фрески.
– Да, Чезена прав, это ересь, – решительно заключил кардинал Караффа.
– Я не думаю, – возразило другое духовное лицо.
Святые отцы загудели, началось оживлённое обсуждение. Не все видели в росписи алтарной стены еретическую идею. Были и такие, которые не поскупились на хвалительное слово. Микеланджело, стоявший в стороне, беззвучно смотрел на шумящее собрание; из чёрной курчавой бороды проглядывала высокомерная усмешка.
Святые отцы не пришли к единому решению. Лишь спустя четверть века неутомимый Джанпьетро Караффа, став папой римским, прикажет задрапировать фигуры «Страшного суда».
– Это возмутительно! – в последний раз проворчал Чезена и, замыкая удаляющееся из капеллы шествие, зло взглянул на художника.
– Ваше святейшество, – оставшись наедине с папой, начал оскорблённый церемониймейстер, – вы, может быть, не заметили, но этот наглец Буонарроти изобразил меня на фреске.
Павел III сидел за столом и что-то писал.
– Не только тебя, Бьяджо, – не поднимая глаз, ответил папа, – не только тебя…
– Но, ваше святейшество, он поместил меня в ад… – Последнее слово Чезена произнёс очень высоко.
– В ад, говоришь. – Папа неприятно скрипнул пером. Чезене почудился зубной скрежет во тьме изъедающего бездонья. – Здесь я тебе, увы, не помощник. – Павел поднял глаза. – Руки у меня не столь длинны, Бьяджо, чтобы дотянуться до ада. Да и пристало ли святому отцу иметь дело с чертями? Вот если бы ты в чистилище был, я, быть может, тебе и помог бы. Но в твоём случае, сам видишь, милости ты можешь найти лишь у самого художника.
Но милостив Микеланджело не был. Правоверный церемониймейстер Бьяджо да Чезена, запечатлённый на алтарной стене в образе остроухого Миноса, остался на ней на века.
Сволочь
Возбуждённые люди в пропылённых лунги и разноцветных тюрбанах, притоптывая и восклицая, толпились на красноватом песке вокруг увёртливого хвостатого зверька и разъярённой змеи, угрожающе раздувшей узорный капюшон. Старинные противники – кобра и мангуст – вели смертельную схватку, поднимая пыль и распаляя увлечённых наблюдателей. 9
Уставив на врага бусинки агатовых глаз, кобра шипела, извивалась, скручивалась в напряжённые кольца, распрямлялась как пружина и, не смыкая клыкастой пасти, раз за разом совершала безуспешные броски в сторону мангуста, который, в свою очередь, проворно уходя от опасных выпадов, пытался всадить мелкие острые зубы в чешуйчатое тело противницы. Отважный зверёк совершал кульбиты, дразняще пританцовывал и издавал игривый писк, заглушаемый криками раззадоренных зрителей.
После пятиминутного единоборства челюсти мангуста стиснули гибкий змеиный позвоночник. Кобра беспомощно затрепыхалась и мгновение спустя повисла безжизненным глянцевитым шнуром. Потеха была окончена.
– А зрелище-то занятнее бравой возни наших петухов, – прислонившись спиною к пальме, шутливо заметил Антон Павлович Чехов.
– Это точно, – согласно кивнул стоявший рядом мичман Глинка.
В октябре 1890 года доктор Чехов покинул тюремный голодающий Сахалин, где навидался гнетущих видов каторжной жизни. Пароход Добровольного флота «Петербург», на котором он возвращался домой, совершал неспешное плавание, претерпевал ярость азиатских тайфунов и периодически делал остановки в портовых городах. Одну из остановок пароход сделал в цейлонском порту. Колониальный остров, с его тёплыми ветрами, восточной пестротой, бронзокожими знойными женщинами и шелестящими фикусами, после малоприятных месяцев, проведённых на кандальном Сахалине, показался Чехову жизнеутверждающим эдемом, полным безмятежности, ласкательных красок и благоуханий.
– Я возьму себе одного, – немного поразмыслив, сказал Чехов.
– Кого? – поинтересовался мичман.
– Мангуса. 10
– Зачем он вам, Антон Палыч?
– Будет у меня критиком, – улыбнулся Чехов. – Нынешние зубоскалить разучились, а этот силён кусаться, вон как змеям хребты грызёт.
И Чехов, сговорившись с цейлонским торговцем, купил себе самца мангуста. Взяв пример с доктора, не зная для чего, купил себе мангуста и мичман. Однако одного мангуста Антону Павловичу показалось недостаточно, и он в дополнение к самцу взял ещё и самочку, которая, как выяснилось позднее, оказалась пальмовой кошкой. Надурили, торгаши!
С приобретённым зверьём Чехов и Глинка вернулись на пароход.
«Помесь крысы с крокодилом, тигром и обезьяной», – такое описание Антон Павлович даёт этим кошкообразным существам, доставившим ему немало хлопот. 11
На пароходе чеховский мангуст (тот, который действительно мангуст) вёл себя весьма несносно: он скакал, визжал, кусался, грыз поводок и, любопытствуя, тыкался заострённой мордочкой во все углы парохода, вызывая и смех и раздражение. За дурные повадки матросы «Петербурга» прозвали суматошного зверька Сволочью, (вполне по-чеховски, не правда ли?), и Чехов одобрил это прозвание.
Когда писатель-путешественник был ещё в пути, газета «Новости дня», насмешничая, задавалась вопросом:
«А. П. Чехов „из дальних странствий“ возвращается в Москву. Интересно знать, что он привезёт с собой: цибик ли чаю для знакомых или седых бобров на шубы?..» Однако никто не мог себе вообразить, что, не считая сувенирных безделушек, Антон Павлович привезёт с собою диковинных зверей. 12
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Говоря о правительстве, Л.Н. сказал: «Удивляюсь, как это они меня до сих пор не посадят куда-нибудь?! Особенно теперь, после статьи о патриотизме. Может быть, они еще не читали? Надо бы им послать». А. Б. Гольденвейзер. «Вблизи Толстого».
2
Парафраз.
3
«…Штиблет новых я на Л.Н. не видал никогда: всегда старые, сношенные, часто заплатанные…» А. Б. Гольденвейзер. «Вблизи Толстого».
4
Тендер – специальный вагон с топливом, который прицепляется к паровозу.
5
Жизнь прекрасна. Радуйся каждому мгновению . (фр.)
6
О. Э. Мандельштам. «Ода Бетховену». С 1809 года эрцгерцог Иоганн Рудольф, князь Франц Лобковиц и князь Фердинанд Кински обязались выплачивать Бетховену пожизненный пенсион. Однако выплаты совершались неровно, и уже через несколько лет композитору пришлось в суде отстаивать своё пенсионное право. Решение суда удовлетворило Бетховена отчасти.
7
А. С. Пушкин. Юрьеву.
8
Евангелие от Марка, 10:15
9
Лунги – традиционная одежда в Индии.
10
Чехов писал и произносил «мангус».
11
Из письма к Н. А. Лейкину от 10 декабря 1890 г.
12
«Новости дня». №2671. 1890 г.