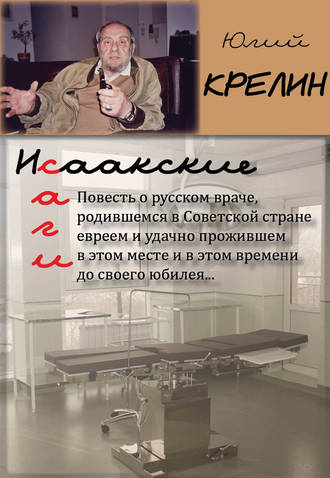
Полная версия
Исаакские саги
Народ у стола менялся. Одни уходили, другие приходили. Всегда так бывает в клубах, где, как правило, гужуются одни и те же люди. Рестораны в ВТО, ЦДЛ, ЦДРИ, да еще Дом кино, и были такими профессиональными, а в условиях столицы первого социалистического государства, единственными элитарными клубами. За столом оказывались то художники, то артисты, то писатели, поэты, портнихи, парикмахеры, как, например, и Борис, который для этого контингента был просто "нужник" обслуживающей армии. Единственно, хирургов все ж боялись – имеет дело с кровью и смерть ему брат и товарищ. А может, все и не так… но идея: вы для нас, а не мы для вас, как будто мы не все друг для друга, нашего доктора преследовала постоянно.
Иные подходили с наполненным графинчиком, но никто не подходил с закуской, поэтому пили все больше и больше, а есть было нечего. И, как всегда здесь, основным сопровождением водки был кофе.
В один из подходов их собутыльником оказался старый поэт, писавший официальные стихи и песни, исполняемые на празднествах, освященных партией. Все были уже достаточно пьяны и цековский стихотворец в том числе. Как часто случается с поэтами, выпитое подвигает их на чтение своих сработанных строк, и подошедший к ним гость, заняв стул, словно трибуну на партийном митинге, начал, как нынче говорится, "озвучивать" свои труды. Неожиданно для всех стихи оказались нежными, лиричными и совсем неплохими. Уже совершенно пьяный Володя одобрительно и поощряюще, а, пожалуй, даже почему-то покровительственно замурлыкал какие-то комплиментарные слова.
Поэт приосанился и, вальяжно растекшись по стулу, проворковал:
– Почему же? Я еще и не так могу.
Долго его не могли остановить. Впрочем, и не пытались. Просто никто не слушал, а оценить талант были уже не в состоянии. Да он в этом и не нуждался, и на реакцию застолья внимания не обращал. Кто-то разговаривал о чем-то не имеющем никакого отношения к поэзии читающего мэтра, кто-то задремывал. К последним присоединился и Володя. Борис же бубнил внутри себя про консилиум, который доложен состояться в шесть часов, пытаясь переложить это напоминание в стих. Однако, по видимому, таланту ему на сей подвиг не доставало, и он продолжал напоминание свое добротной прозой: "У меня консилиум в шесть часов. У меня консилиум в шесть часов".
Уже ушел и Илья Михайлович, расплатившись за взятое им с самого начала. Они еще чего-то брали, за что расплачивались деньгами, одолженными Борисом у встреченного приятеля-соседа. Дело подходило к пяти и Борис, внезапно преобразившись в Бориса Исааковича, поднялся из-за стола, чтобы отправиться справлять свой врачебный долг. Но не мог же он оставить здесь товарища, хоть он и математик-супермен. Но супермена за столом не было, и Борис ринулся его искать. Прежде всего, он, разумеется, направился в уборную, но там товарища не было. Борис стал шнырять по всем закоулкам в поисках пропавшего друга. Нашел. В одном из закутков он сидел за столиком с одним известным режиссером и играл в шахматы. Володин соперник, вроде, был трезв, а потому совершенно непонятно, что его заставило сесть играть с человеком, который с трудом произносил даже такое краткое трехбуквенное слово, как шах, хотя и легко на устах его рождался столь же краткий мат. И, тем не менее, они играли.
– А вот я мат сейчас поставлю и тем себя на век прославлю.
По-видимому, под явным влиянием придворного поэта несколько раз повторял пьяный друг.
– А вот и не поставишь.
Без всяких поэтических попыток, но почему-то на ты, отвечал ему, хоть и известный, но до сего дня им не знакомый представитель театрального искусства.
– А вот и поставил уже, – наконец, полноценной прозой сказал Володя и с тяжким кряхтением стал подниматься со стула.
Действительно. На доске был полноценный мат, который весьма редко бывает в мало-мальски квалифицированных играх.
Ну, так игра была не квалифицированная. Зато удовольствие от нее, по крайней мере, один из игроков, безусловно, получил, судя по победно-самодовольной морде пьяного победителя.
Иссакыч друга подхватил и повлек в сторону выхода.
– Ты чего? Ты куда? Мы еще не кончили.
– Чего не кончили? Я уже за все расплатился. Некогда. У меня консилиум. Понимаешь? У меня консилиум!
– А куда ты меня тащишь? Барс Сакыч! Я хочу домой.
– К маме…
– Ну и к маме. Имею право.
– У меня еще осталось на такси. Доедем до моего места, а потом я тебя довезу куда надо.
– А куда мне надо?
– Пьянь подзаборная. Кабацкая ярыжка. Куда мне надо, туда и тебе.
С легкой, не агрессивной перебранкой, наконец, выкатились они на улицу. Борис чувствовал ответственность свою и как врача и как товарища пьяного супермена, а потому сам он себя похмельным не ощущал. Ограничитель пока помогал. Чуть пошатываясь под тяжестью неустойчивого друга, он все же целеустремленно передвигался в сторону стоянки такси. Вновь Бог им помог, и искомая машина попалась раньше цели их передвижения. Минула их и опасность отказа шофера вести пьяных. Видимо, и тут помог ограничитель – Борис не производил впечатление малотранспортабельного. Загрузились и покатились.
Около дома Тины Вадимовны Борис усадил Володю в скверике вблизи подъезда и строго наказал сидеть и никуда не отлучаться пока он не придет. Он надеялся, что недолго будут собираться и знал, что путь лежит мимо его дома, куда и хотел закинуть товарища. Пусть проспится, пока не закончится консилиум.
Дверь открыла сама хозяйка и провела в большую комнату, что в прошлом могла называться гостиной, а сейчас чаще именуется иными столовой, а иными общей комнатой. Прямо перед дверью, шагах в пяти от нее стоял круглый стол, на котором возвышалась в половину человеческого роста скульптура, сидящего в кресле покойного мужа Тины Вадимовны, известного писателя, разумеется, Борисом узнанного.
– Хорош? – указала на скульптуру Смоляева – Проект памятника. По-моему, очень удачно. Садитесь Борис Исаакович. Сейчас я буду готова.
Она открыла дверь в другую комнату, где на противоположной стене висел большой портрет молодой женщины в полный рост.
– А это Глазунов. Его пока мало знают – говорят гоним. Муж его привечал.
Прежде чем Тина Вадимовна прикрыла дверь, Борис успел разглядеть стоящий на пьедестале прозрачный саркофаг и мужнину посмертную маску внутри его.
Недолго меняла Смоляева туалет и вскоре вышла.
– Тина Вадимовна, у меня тут внизу товарищ дожидается. Он чуть подвыпил, не могли бы мы его закинуть в дом? Крючок очень небольшой. – Борис назвал адрес и получил согласие хозяйки и шофера.
А разве евреи пьют?
– А кто вам сказал, что он еврей? – согласно правилам, заданной игры, вопросом на вопрос ответил Борис. И продолжил – Это вы, глядя на меня, решили обобщить и мое окружение?
– Да сама не знаю. Почему-то так решила.
– Да пьем мы, пьем. Как говорил Светлов: " мы уже пьем, мы уже деремся, что вы от нас еще хотите?"
Тина Вадимовна смущенно похихикала: – Да, да. Помню, помню. Светлая личность Михаил Аркадьевич. Это он антисемитской команде, тогда в ЦДЛ сказал, когда начали гоняться за евреями, врачами-убийцами. Мой вот никогда антисемитом не был. У нас полно было друзей евреев. Вот сосед наш. Еврей. Замечательный писатель и человек. Знаете, он тоже прилично пил.
– Ну вот, видите! А вы говорите! Евреи тоже люди, тоже пьют порой.
– Вот именно, что порой. Это и ценно, что порой.
– Да чего делить мир. Евреи такие же. Есть пьющие, а….
– Что это мы разговорились! И товарищ ваш ждет, и наш больной заждался, наверное.
В лифте Смоляева все ж успела высказать свое отношение к ныне царствующим в онкологии академикам и их теориям.
У самого подъезда уже стояла открытая машина полувоенного полудеревенского образца, именуемая в народе "козлом". Тина Вадимовна водрузилась на переднее сиденье рядом с шофером. Ее белая широкая кружевная шляпа, закрепленная высохшим раствором сахара, что в то время было модно среди некоторой части населения, почти касалась лица водителя своими сладкими полями.
– Ну! Где же ваш товарищ? Борис посмотрел в сторону скамейки, где оставил друга математика, но там никого не было. Он побежал на сквер и там, на траве, подле лавки обнаружил, лежащую и мирно спавшую, потерю. Борис, согласно правилам и традициям, стал растирать уши и приговаривать: "Вставай, гадина! Машина ждет. Великий русский писатель тебя ждет, чтобы домой тебя, пьянь подскамеечная, отвезти" Он поднял Володю и, поддерживая его сзади, и, подталкивая, стал медленными шажками приближаться к машине.
– Здравствуйте, – вполне куртуазно проворковал Володя и стал не без труда взбираться на высокую машину.
Наконец, они уселись. Ветер мотался по их лицам, поля шляпы двигались прямо перед устами Бориса и он с трудом сдерживался, чтоб не лизнуть их. Все ж и на него, в конце концов, не могло не подействовать выпитое часом раньше. От этой сладости он удержался и весь его интеллект был сосредоточен на удобствах пьяного товарища. Он сильно надеялся, что ветер, овевающий их в открытой машине, поможет и отрезвит обоих.
Володя задремал, картинно склонив голову на грудь. Тина Вадимовна повернулась и удовлетворенно оглядела нового персонажа их вояжа. Доброжелательно улыбнулась и томно протянула:
– Не-ет. Конечно, еврей.
– Разве? – Борис толкнул соседа в бок. Тот резко вскинул голову.
– Чего надо? Больно же.
– Вовк, ты еврей?
– Отстань. Не знаю. Спроси у мамы, – и опять уронил голову.
Все засмеялись. Недолго их овевал ветер. Дом Бориса совсем рядом.
– Я его только введу в дом. Я сейчас. Я ненадолго. Ладно?
Борис уложил товарища на тахту – тот практически и не просыпался и хозяин дома устремился к двери.
Не тут-то было.
Борь, поди-ка, – вдруг с лежанки раздался, хоть и пьяный, но вполне человеческий голос.
– Чего тебе? Я сейчас приеду. Никуда не уходи. Я тебя запру.
– А где я?
– Совсем сдурел, пьяница! У меня ты. Не видишь что ли!
– А-а… – успокоено протянул Володя и приподнялся, видимо, оглядеть место пребывания. Борис наклонился над ним, а тот, в ответ на участие, вдруг, обдал его левый бок от пояса до пяток всем, чем они сегодня закусывали и выпивали.
Не можно повторить словесную реакцию товарища на это, я бы сказал, дружеское приветствие уходящему доктору.
Борис пошел в ванну и мокрой губкой стал наводить порядок на брюках.
Но ждет больной, ждет писатель в машине, долг зовет, труба трубит, и, кинув пару дерзких фраз остающемуся, но уже крепко спавшему товарищу, ринулся вниз по лестнице.
"Машина открытая, быстрая езда, ветер… Не заметит – думал на бегу участник консилиума. А пока доедем, все высохнет".
Но Тина Вадимовна повела носом и задумчиво, пожалуй, даже ностальгически, молвила:
– Блевал? Понимаю. Знаю. Ну, ничего. Оклемается.
И они поехали на консилиум, где их ждал больной, полностью доверявший Тине Вадимовне и ее докторам и ее воззрениям на современную онкологию.
Дружба
– Борь, шеф вызывает.
Чего это? Всё вроде нормально. Последние операции без осложнений. Конфликтов, жалоб нет. Может, кто лечь должен?
– Алексей Васильевич, звали?
– Да, Борис. Какого рожна ты ни черта не делаешь? Бездельничаешь. Сколько ты получаешь?
– Почему бездельничаю? У меня последние дни по несколько операций ежедневно. А получаю ставку и дежурства.
– Это и есть безделье. Бедность и безделье. Сделаешь операцию и домой. А там что? Гульба? Хватай же момент. Разве можно жить только на зарплату твою.
– Алексей Васильевич. Я с больных денег не беру. Коньяки только носят.
– Да я не об этом. Голова на плечах есть. Эрудиции достаточно. В консерваторию таскаешься. Нельзя только рукодействием заниматься. Я, вовсе, не предлагаю тебе деньги брать. Возьмёшь и получишь по репе. Деньги надо брать законным путём.
– Я, как и Остап Бендер, уголовный кодекс чту.
– Мне ваш Бендер до лампочки. Вы, всё ваше поколение в нем по самые яйца. Причём тут уголовный кодекс? Если больной принёс деньги после, без договоренности и вымогательства, это больше не кодекс грызёт вас, а устав партии. Смеюсь. Не брал и не бери. Да ты садись. Чего переминаешься? В сортир что ли надо?
– Спешу, Алексей Васильевич. У меня ещё сегодня операция.
– Милый, одними операциями у нас сыт не будешь. Мозги надо тренировать. О диссертации пора подумать. Ты, хоть и городской врач, к кафедре отношения не имеешь, но бездельничать всё ж не гоже.
– Да на что мне диссертация? Работа длительная с очень низким КПД. Да и на десять рублей только больше. А то, что в диссертации надо размазывать не менее чем на двухстах страницах, всё можно уложить в статье не больше десяти страниц. Я уже сделал.
– Да, ладно тебе. Ну, таковы правила игры. И работа приучает к аналитическому мышлению. А насчёт КПД, то если даешь согласие на диссертацию, я тебя завтра переведу в ассистенты кафедры. При твоих ста десяти эта сотня стоит КПД. Тем более что статьи у тебя есть. Тему возьми по этим твоим работам.
– Алексей Васильевич, я, по-прежнему, против диссертации. Но, как сказал Генрих Наварский: Париж стоит мессы. Забудем про КПД. А меня в ассистенты пропустят?
– Ну вот! Я ж говорил, эрудиция для соискателя достаточная, – шеф засмеялся. – Я сегодня иду к ректору, вроде лицензии на отстрел евреев отменили. Пропустят. Я же раньше молчал.
Игривость шефа, по-видимому, была связана именно с еврейскими проблемами. Ему самому, выходцу из дворянской среды, эта ситуация неудобна и неприятна. Так расценил Борис слова и ужимки шефа, обычно, более величаво разговаривавшего со своими помощниками по кафедре, да и со всеми врачами больницы.
Короче, надо, пожалуй, начинать работать над диссертацией. А вообще-то, без диссертаций, этих кропаний статей и прочего, жизнь, не в пример, вольготнее. Но ведь, действительно, Париж стоит мессы.
Клинический материал у него уже кое-какой накопился. Значит, прежде всего, надо заняться литературой. Всё это какой-то бред. Нужная литература для дела ему известна, в статье упомянуты, рефераты есть. Но для обзора надо капать в него всё, что к проблеме близко, а заодно, что дальше тоже. И это называлось умением работать с научным материалом.
Борис уже заранее ненавидел эту работу, потому что делать надо исключительно из-за денег; а желания сбросить этот камень с тела и выбросит грязь сию из души, заставило его выкинуть боевой вымпел, забить в тамтамы, выйти на тропы войны, то есть пойти в Ленинку и начать поиск всего, что давно найдено. По дороге он вспомнил шутку: основная задача молодого учёного убедить жену, что Ленинка работает круглосуточно.
Подбирать материал по журналам работа нудная и потому, чтобы разогреть себя, разогнать желание обратиться к научному печатному слову, он брал какую-нибудь интересную книгу и лишь почитав, войдя в библиотечную ауру, переходил к журнальным поискам. И опять по косвенной аналогии вновь вспомнил ерунду: Эдуард Второй Английский, будучи гомосексуалистом, страдал от отсутствия наследника, поскольку монарх и династия требовала. Для этого он в постель укладывал с одной стороны любовника, с другой жену. Разогревшись на предмете страсти, он в последний момент успевал перекинуться и закинуть свои хромосомы в лоно носительницы надежд династии.
Больше месяца длилась эта тягомотина с ненужной литературой. Набрав достаточно, он сел за стол и начал писать.
Не хотелось.
Статья им была уже написана и даже опубликована ещё до предложения шефа. Все карточки для литобзора и клинические данные, как говорится в медицинских кругах, он расклеил по большой чертежной доске и поставил её перед глазами на краю стола, прислонив к стене. Готовился. И время тянул. Хотел или не хотел, но всячески оттягивал начало – первые буквы, слова, фразы своего будущего фундаментального, бессмертного труда.
Чтоб разогнаться в библиотеке, он брал книги. Дома брать их боялся – это могло стать неостановимым процессом чтения. Время писать – время читать. Время камни собирать. Бумага, ручка… И… Стал вспоминать случаи, больных достойных его диссертации, но в голову приходили лишь какие-то сюжеты из жизни дома, улицы, больницы. Почему-то он стал записывать их в виде рассказов. Увлёкся. Но, расписавшись, он хватался за голову и насильно заставлял себя переходить на сухой язык науки – почему-то считали, что в науке (во всяком случае, в медицине, будто она наука, а не гибрид ремесла и искусства) должен быть особый сленг, который больше производил впечатление квазинаучного. Он приводил литматериал, клинические данные и прочую дребедень, никак не прибавляющую ничего к его предложению по пониманию и лечению интересующей коллег болезни… Так и на следующий день. И на след… и ещё…
Так и писал, то псевдонаучным полуканцелярским языком с медицинским флером. То переходил на рассказики, вспоминая свою хирургическую жизнь и быт.
Получался странный график дня, жизни. Приходил он в больницу в восемь часов. Короткий оббег своих больных. Потом утренняя пятиминутка, эдак, на полчаса. Затем до двенадцати занятия со студентами, после которых перевязки, операции, записи историй болезней. В шесть уходил и упражнялся писаниями. В десять – гульба. А это уж как придётся.
Иногда он уходил раньше. В консерватории у него был контакт с билетёрами. За пять рублей его пропускали и он всегда сидел во втором амфитеатре у прохода. Контакт с Борисовичами. Не Рюриковичи иль Гедиминовичи. – совсем не княжеского рода были Борисовичи. И кажется даже не родственники. Так он называл административный клан Большого Зала. Директор был Ефим Борисович, заместитель его Марк Борисович, администратор Павел Борисович, а у входа Клара Борисовна. Борисовичи!
Однажды он пошёл днем на репетицию приехавшего дирижёра из Германии. Абендрот– в период Гитлера он жил у нас, в нашей стране. А нынче приехал в гости. Гастроли с Запада были редкие. Он давал один только концерт и студентам консерватории иным музыкантам и, так, разным пройдохам типа Бориса, разрешено было присутствовать на его репетиции. Опять девятая симфония Бетховена. Она сопровождала Бориса по жизни. Абендрот дирижировал, временами прерываясь на какие-то замечания. Лишь один раз Борис понял, что речь о призыве к немецкому духу. И действительно, они повторили совсем по иному. Как это получается, Борису было не понять. Размышляя на эту тему и досадуя на свой недостаточно культурный уровень, он в гардеробе повстречал некую Веру, свою давнюю знакомую, ещё по студенческим временам. Она тогда училась на филфаке в университете, а сейчас считалась писательницей. Считалась, так про себя сказал Борис, потому что сам он ничего не читал и не слыхал даже о каких-либо её публикациях. Что тоже попенял своему уровню эрудиции. Тем не менее, он заговорил с эрудированной филологиней об озадачившей его поправки Абендрота. Шли они домой пешком, благо она жила недалеко. У подъезда дома она предложила зайти на чашечку кофе. Жила она одна. С мужем развелась. А дочка была у бабушки. Борис зашёл сзади снять с неё пальто, и их долгий музыкальный разговор закончился тем, что, помогая ей в борьбе с одеждой, он обнял и притянул её спиной к себе. Автоматически – поза призывала. Она не стала возражать и, развернувшись нему лицом, подтянула его голову к себе и поцеловала. Борис не стал отмахиваться. Нацеловавшись, они всё же решили и кофейку попить. Она поставила чашечки на маленький столик перед тахтой и двинулась в сторону кухни. Борис взял ее за руку и подтянул к себе. "А кофе на потом, Не возражаешь?" Она засмеялась. "А что ты называешь до потом?" "Сейчас посмотрим. И в восторге беспредельном может в светлый войдё-ё-ём чертог" "Бетховен тебя сильно одолел" Это она уже сказала лёжа поперек тахты рядом с ним. Он приподнял свитер. "Помнёшь, порвёшь всё" "Так сними" "Ты торопишься?" "Хочу кофе. Пусть быстрее будет потом" "Дай хоть постелю. Ковёр на тахте колется" Кофе они пили нагими, по-видимому, чувствуя себя таитянами. Но разговоры при этом были вполне цивилизованными и интеллектуальными. От музыки они перешли к науке, литературе. Борис пожаловался на необходимость писать диссертацию и, раскололся, сказал, что, скрашивая занудство научного творчество, пишет параллельно какие-то рассказики. Вера уговорила его почитать ей. Вроде бы, мэтр она для него. Писательница всё ж.
Работа над диссертацией несколько приостановилась, но потом он вошел в обычный график: приходил к Вере около десяти, что и шло по рубрике "гульба". Чтение рассказов перемежались более понятными занятиями. Понятными и может быть более приятными. Для кого и зачем? Жизнь покажет. Во всяком случае, Вера очень комплиментарно оценила его рассказы. Говорит, что надо печатать. Борис удивился. Не поверил. Но встречи продолжались, отвлекая от диссертации. Понятно – приятное дело предпочтительнее не больно любимой необходимости. Повышение зарплаты, деньги для Бориса никогда не были выше истинного, естественного, природного удовольствия.
Через некоторое время рассказы его с её подачи прочитал ещё один ценитель. И он заговорил о публикации. Сам Борис никуда не ходил, никуда их не носил, но критик, который с похвалой отозвался о них, сам же и отнёс. В журнале понравилось, приняли. Самомнение Бориса повысилось, но диссертацию, худо-бедно, но писать продолжал.
С Верой он встречался всё реже и реже. Так получилось. Ну, уж не диссертация тому была причиной. Однажды, вечером она ему позвонила. "Боря. Говорю из метро "Арбатская", рядом с тобой, из медпункта. Мне стало плохо. По-моему внематочная. Вызывать скорую?" Боря пошёл, побежал к ней. Досада и полное неверие в это. Не верил – и всё. Не верил, вспоминая её поведение. Но она даёт ему понять – причина он.
Пришёл. На внематочную непохоже. Живот мягкий. Когда щупаешь, говорит, что болит. Да не так, как при внематочной. Брать на себя ответственность побоялся и увёз к себе в больницу на такси. Там тоже отвергли её диагноз. Гинекологи нашли кисту и сказали, что лучше оперировать. Но не срочно.
В журнале сказали, что напечатают сразу. Как у них говорят: с колёс.
Вера не хочет откладывать операцию в долгий ящик и всё убыстряет. Но категорически требует, чтоб оперировал Борис. "Я так хочу. Имею же я право требовать в сложившейся ситуации" "Вера, но пойми, в конце концов, это не этично: мы стараемся не оперировать своих близких" "Был ты мне близкий. Сейчас можешь. Внематочной нет, а то был бы близкий. Я настаиваю. Всё-таки ты должен искупить и доказать, что ты…" "Ничего не понимаю. Что искупить? Что доказать?" "Доказать, что, по крайней мере, ты мне друг. В конце концов, если б не я, твои рассказы, так и оставались бы придатком этой дурацкой, как ты сам говоришь, диссертации" Борис сдался. Операция была назначена и внесена в график ближайшего времени. Пока Борис обходил её палату стороной. Накануне операции она сама его нашла и вызвала на очередной разговор.
"Боря, мне уже достаточно лет. У меня есть дочь. Больше я, ни при какой погоде, рожать не хочу. Живу я одна. Прошу тебя во время операции перевязать мне трубы. Хватит с меня беременностей и абортов" "Ты сошла с ума. А если ты снова выйдешь замуж?" "И в этом счастливом случае, о ребёнке и речи быть не может" "Но я такие вещи не имею права делать. Это, в конце концов, уголовщина" "А ты всегда делаешь только то, что имеешь право? А меня оставить ты имел право?" "Нет, нет, нет! Нельзя. Есть вещи, которые нельзя – и всё. Обратись к гинекологам. Приведи им какие-то доводы и пусть этим занимаются специалисты" "Нельзя! А то, что твоей неожиданной сексуальной агрессией ты сорвал мне весьма перспективный роман, это можно. Ты сломал сук, на котором я, казалось мне, прочно сидела. Извини, пожалуйста"! "Я не знаю, что тебе ответить. Вообще-то, я такой же агрессор, как и Израиль, начавший шестидневную войну. – У Бориса появилась реальная возможность сменить направление разговора. – Кстати, мы тоже с тобой встречались не больше шести раз. – И не воспользовался. Не сумел продолжить неожиданно возникшую тему. – Вера! Уволь, Вера, уволь. Давай закончим этот разговор" "Неужели ты будешь такой неблагодарной скотиной. Такой же, как и все. Человеческий стандарт. По твоим рассказам я была о тебе иного мнения. Потому и протежировала тебе в этом деле" "Причём тут рассказы?" "Притом, что всё в тебе на поверку, стало быть, фальшь. И твои объятия, и твои рассказы. Оказалось, что настоящие человеческие движения души для тебя недоступны. Я думала о тебе, как о близком мне по духу человеке. Гуманист херов" Вера повернулась и пошла. Борис смотрел ей вслед и то ли увидел, то ли домыслил в её фигуре, в её походке столько горя и печали, что бросился вслед за ней. "Вера! Ладно. Я это сделаю. Но ты знай, что я иду на преступление и очень не хотелось бы, чтоб этом знал, хоть кто-нибудь, кроме меня и тебя" "О чём ты говоришь?! Родной мой! Всё же ты человек".
Операция прошла благополучно. Конечно, подтвердилось, что никакой внематочной там и не пахло. Кисту он удалил и, задурив голову помощнику, начинающему хирургу, сумел перевязать трубы, так, что он и не распознал это полупротивоправное действие. Вера через несколько дней выписалась… и исчезла. Сколько он ей не звонил, телефон молчал.








