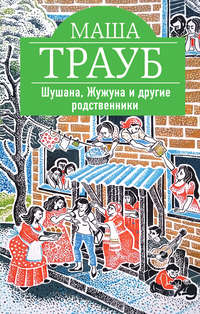Полная версия
Лишние дети
Нет, я не плакала, хотя воспитательница ждала, что я начну скулить и извиняться. А что мне плакать? Ничего нового я не услышала.
– Тебе даже не стыдно! – заявила воспитательница и наконец оставила меня в покое.
Мне не было стыдно. А за что? Сама Елена Ивановна не пробовала напялить на себя эту дурацкую мухоморную шляпу и простоять смирно сорок минут? Да ни за что бы даже пяти минут не продержалась! И шляпа эта воняла, кстати. Хуже, чем духи Ленкиных мамы и бабушки. Когда они зашли в группу, я чуть вообще в обморок не грохнулась. Их бы в наш туалет завести в качестве освежителей воздуха. Постояли бы там, благоухая, хоть пять минут, так на неделю запаха хватило бы. А Елена Ивановна улыбалась и причитала – какие духи, какой аромат! Хотя сама после представления бросилась к форточке и чуть ее не оторвала. Так духами надышалась, что свежего воздуха захотела. И потом в зале еще два дня окна открытыми держали – никак от запаха не могли избавиться. Мы аж зубами клацали, когда польку танцевали на музыкальном занятии. А Флора Лориковна сидела, замотавшись в пуховый платок, и ругалась на незнакомом языке.
Вот Стасик – молодец. Я им восхищалась. У него обнаружились идеальные способности для выживания в детском коллективе. Он очень умный, хотя Елена Ивановна считала его дураком, только что не дебилом. Потому что Стасик был не как все остальные дети. Да, у него имелись мама, отчим, целых три бабушки и младший брат – считай, полная благополучная семья. Но даже это не делало его нормальным. Стасик много думал. Обо всем. И молчал. Если Елена Иванова спрашивала у него, сколько будет один грибочек плюс еще один грибочек, Стасик надолго задумывался и не отвечал. Сидел и улыбался, как дурачок. Просто Елена Ивановна не знала, что Стасик умеет считать до ста и складывать не грибочки, а цифры. Причем двузначные. Я это тоже случайно узнала. На утреннике он должен был играть дуб. Ему всучили в руки ветки, а на голову нацепили бумажный ободок с нарисованным желудем. Я, кстати, заметила – всем детям, которых Елена Ивановна считала глупыми или странными, доставались роли деревьев и грибов. Иногда пеньков и забора. Так вот когда Стасик был дубом, он стоял на репетиции ровно и даже не шелохнулся.
– Как ты это делаешь? – спросила его я.
Стасик всегда сразу понимал, о чем я его спрашиваю, хотя другой бы обязательно спросил: «Что делаю?» И он ответил:
– Считаю.
– Как?
– Сначала через два: два-четыре-шесть-восемь и так далее. Потом через три – три-шесть-девять-двенадцать…
– И долго ты так можешь? – спросила я.
– Не знаю, – улыбнулся Стасик.
Вот вы сейчас скажете, что дети в детском саду не могут так разговаривать. Откуда вы знаете? Вы, родители! Вы знаете, как ваши дети говорят? Нет. И никто не знает. Даже Елена Ивановна. Потому что при воспитательнице мы говорили как положено детям или просто молчали. «Слово – серебро, а молчание – золото» – мы эту поговорку усвоили еще в младшей группе, хотя про золото и серебро не понимали. Зато понимали про «еще раз так скажешь, по губам получишь!» В младшей же группе мы активно пополняли словарный запас, пробуя на звук услышанные слова. Вот я как-то сказала, глядя на Елену Ивановну, «полная зопа», не думая, что говорю что-то ужасное. Жопа у нее действительно была полная, точнее толстая. И тогда же впервые услышала «по губам получишь». Значит, «зопа» говорить не стоило. К старшей группе мы владели вполне приличным набором матерных слов. А еще Елена Ивановна повторяла: «Молчи, за умную сойдешь», «Молчи – легче будет». Но любимой у воспитательницы была другая поговорка. Когда она устраивала допрос – кто сломал железную дорогу или почему плохо убрана кровать, всегда вопрошала: «Ну что молчишь, как рыба в пироге?» Если честно, я не очень понимала смысл этих поговорок. Про «умную сойдешь» еще догадывалась, а про «молчи – легче будет» не понимала. Мне тяжелее становилось, когда я не могла никому пожаловаться или хотя бы просто поговорить. Хорошо, что меня Стасик спасал – он не очень умел поддерживать диалог, зато оказался прекрасным слушателем. А про «рыбу в пироге» я вообще голову сломала. Как может быть рыба в пироге? Рыба может быть отдельно с пюре или в супе, но никак не в пироге. Я даже не верила, что пирог может быть с рыбой. Пирожки ведь бывают с яблоками или с мясом. Как я не знала о таком блюде, как рыбный пирог, так и Елена Ивановна не догадывалась, что Стасик считает до ста через два и через три. И даже не подозревала, что именно я отрезала Ленке челку. А мама так и не поверила, что какая-то Светка прихлопнула мои пальцы дверью. И никто из взрослых даже предположить не мог, на что я еще способна.
Когда я стала ненавидеть взрослых? В тот день, когда мне снимали гипс. Доктор дядя Петя меня не узнал. Даже не вспомнил. Посоветовал аккуратнее качаться на качелях и не падать. Я не могла поверить своим ушам. Он даже не обратил внимания на мой гипс, разрисованный крестиками-ноликами. Мне было не обидно, а больно. Очень больно. Куда больнее, чем в тот момент, когда моя рука застряла в двери и когда я выпрямляла себе пальцы в обратную сторону. Тогда я поняла, что взрослые, которые кажутся добрыми и заботливыми, тоже равнодушны. Им наплевать. Просто у них в тот момент, когда они были добрыми, оказалось такое настроение. Как у моей мамы, когда она вдруг пекла яблочный пирог, как я люблю. С хрустящей сахарной корочкой сверху. Я думала, что мама меня любит, раз печет для меня пирог. Но это не так. Совсем не так. Просто у мамы появлялось настроение, а уже на следующий день она спокойно могла забыть накормить меня ужином. Так и доктор дядя Петя пожалел меня, а потом забыл, как я выгляжу, что говорил мне и как успокаивал. Разве это нормально? Вы, взрослые, разве не знаете, что дети все помнят? То, что вы запоминаете на пять минут, у детей остается в памяти на всю жизнь.
Мне даже казалось, что всем детям, когда они становятся взрослыми, промывают с хлоркой мозги. Чтобы стереть все воспоминания о собственном детстве, не помнить, как были детьми и что чувствовали.
Нет, я знаю, жаловаться нельзя. И надо всегда говорить «спасибо». Потому что мы пока маленькие и ничего не понимаем, а потом поймем, когда вырастем. Что поймем – непонятно, но поймем.
Однажды Светка Иванова заболела ветрянкой. И еще пять детей в группе тоже заболели. Я думала, Светку больше в садик не пустят – объявили карантин, и все знали, что ветрянка началась с нее. Елена Ивановна шепталась с заведующей. Обе боялись Светкиного отца, большого начальника, так что про источник заболевания сплетничать всем запретили. Тем более что источник, то есть Светка, провела выходные в подмосковном пансионате, куда простые смертные не попадают, а только бессмертные, как ее папа-начальник и мама в шубе. Именно там она и подцепила ветрянку от такой же дочки бессмертного папы-начальника и мамы в шубе. Неважно. Все знали, что это Светка, и молчали. Заведующая получила праздничный продуктовый заказ – банка шпрот, колбаса салями, коробка шоколадных конфет, бутылка коньяка, а от Елены Ивановны откупились сушеной воблой, талоном в стол заказов магазина и коробочкой польской косметики. Почему я это знаю? Бабушка Светки принесла продукты и выгружала пакеты на стол воспитательницы. Еще делила: «Это вам, это не вам, передайте. Это тоже вам, а это передайте». А о такой коробочке с яркими тенями, румянами и маленькими кисточками моя мама мечтала весь последний год.
Во время карантина я ходила в сад почти счастливая. Родителям предложили забрать детей, многие так и сделали, но моя мама не могла – она работала и, как я уже говорила, присмотреть за мной было некому. Стасика тоже оставили в саду – мама нянчилась с его младшим братом, а старший создавал дома лишние проблемы и заботы. Стасик не возражал против садика, опустевшего больше чем наполовину. Ему так больше нравилось, как и мне. Он учил меня читать и считать. Елена Ивановна была просто счастлива и даже не выгоняла нас на прогулку – два идиота сошлись. Тихо сидят, ничего не ломают, смотрят в окно. Правда, через пару дней, понаблюдав за нашим общением, воспитательница стала переживать, что Стасик может попросить меня в туалете снять трусы в обмен на то, что он тоже снимет трусы. Елена Ивановна стала за нами следить. Но мы в туалет вместе не ходили, трусы друг при друге не снимали, а просто сидели за столом и рисовали. Для виду, чтобы Елена Ивановна не придумала себе еще чего-нибудь про нашу дружбу, я рисовала елки, деревья и цветочки, а Стасик в это время на другом листочке писал мне записки, которые я должна была прочесть. Или примеры, нормальными цифрами, а не клубничками, грибочками и яблочками. Стасик считал, что я могу поумнеть, если постараюсь. И я очень этим гордилась. Больше, чем похвалой от Елены Ивановны. Стасик врать не стал бы. Он не умел. Но учился. Я его учила. Ради его же блага. Такой вот у нас получился взаимообмен знаниями.
Мама Стасика очень хотела, чтобы он называл своего отчима папой или хотя бы дядей Лешей. Но мальчик обращался к отчиму только по имени-отчеству – Алексей Витальевич. Мама очень переживала по этому поводу. Так вот я учила Стасика говорить хотя бы «дядя Леша». Убеждала его в том, что это ничего не значит, а уж тем более не предательство по отношению к его родному отцу, а просто обращение – дядя, которого зовут Леша. Стасик не сразу, но согласился, и его мама очень обрадовалась. И купила ему новую коробку шахмат вместо прежней, в которой были утеряны целых пять фигур. Стасик, кстати, отказывался лепить из пластилина коня или делать из конфетного фантика пешку. Он держал эти фигуры в голове. После того, как он произнес «дядя Леша», у него на столе появилась новая шахматная доска с новенькими блестящими фигурами. Стасик обрадовался, но продолжал играть на старой, привычной доске, держа в голове потерянные фигуры. Я даже не удивилась – после истории с Флорой Лориковной, получившей новый инструмент. Не знаю, как уж себя убеждал Стасик, но, видимо, мои уроки не прошли даром – вскоре он получил в подарок от дяди Леши книжку про шахматы и специальную тетрадь для шахматных задачек. Я перешла к изучению счета в пределах сотни, а Стасик учился называть дядю Лешу папой.
– Он мне не отец, – стоял на своем Стасик.
– Конечно, нет, – соглашалась я. – Но разве тебе сложно это сказать? Ты представляешь, что тебе за это подарят?
– Мне ничего не нужно. – Стасик оказался очень упрямым учеником, упрямее меня.
– А ты подумай. Вот придумай, что тебе нужно, скажи маме и после этого назови дядю Лешу папой.
– Нет.
– Стасик, мне вот все равно, кого называть папой. Хоть тетю Розу. Это же просто слова.
– Ты не понимаешь. У меня есть папа. Он меня заберет. Когда-нибудь. У тебя никогда не было отца, а у меня был.
– Ну как хочешь, – сдалась я. – Но учти, если тебе что-нибудь понадобится, очень важное, просто назови своего Алексея Витальевича папой. И все. Или хотя бы скажи вслух «папа», а про себя говори «Алексей Витальевич».
Однажды Стасик пришел в сад и не подошел ко мне, что показалось мне странным.
– Ты чего? – спросила я своего друга.
Он не ответил. Стасик редко отвечал на вопросы, так что я не удивилась. Но он и вправду был не в себе. Выглядел не таким, как обычно. И вдруг ни с того ни с сего заплакал. Я ужасно перепугалась – Стасик никогда не плакал. Ни разу.
– Перестань, пожалуйста. – Я не знала, что делать со Стасиком. Хорошо, что Елены Ивановны и остальных в группе не было – ушли на прогулку, а нас оставили, чтобы не мешались и не раздражали своим присутствием.
Стасик со слезами пошел в раздевалку и вернулся с коробочкой.
– Что это? – не поняла я, поскольку такой коробки никогда не видела.
– Готовальня, – выдохнул Стасик, – а еще транспортир.
– Стасик, говори нормально, – попросила я, поскольку слов таких не знала и не слышала.
– Я сделал так, как ты сказала. Сказал вслух «папа», а про себя – «Алексей Витальевич». И вот – у меня есть это.
– Ты об этом мечтал? – Я рассматривала коробку, в которой лежали какие-то странные штуки.
– Да. Я давно просил, но мама говорила, что мне рано.
– Так и чего ты плачешь? – не понимала я.
– Я его папой назвал. За это. За транспортир. Я его раньше очень хотел, а теперь не хочу.
– Ну, назовешь своего отчима еще раз «папой», когда придумаешь, что тебе еще нужно. – Я не понимала, почему Стасик так страдает. Я бы такую ерунду точно не попросила, а что-нибудь стоящее – пальто новое, например, или колготки, как у Ленки Синицыной.
– Разве так можно? – спросил Стасик.
Я посмотрела на него и еще раз убедилась в том, что нашла себе самого странного друга из всех возможных. Не просто ку-ку, а на всю голову. Если так пойдет дальше, то я с ним таблицу умножения выучу, пока объясню, что можно, а чего нельзя.
– И что с этим делать? – спросила я, взяв странную коробочку, чтобы отвлечь Стасика.
– Все, что угодно. – Стасик быстро отвлекся и начал объяснять мне, как измерять углы транспортиром.
Нет, мой друг был не странным, не чокнутым. Он… был уникальным, удивительным ребенком. Талантливым, умным, при этом добрым и наивным. Он умел жить в своей голове, в которой творилось не пойми что. Многозначные цифры, готовальни, транспортиры, шахматы. Его собственная голова являлась для него укрытием и спасением. Если честно, я завидовала ему. Хотелось бы мне уметь так думать, забывая обо всем, что творится рядом. Не замечать быта и радоваться транспортиру, а не так, как я – новым колготкам. Я сама чуть не начала плакать, поскольку решила, что недостойна такого друга. Зачем я ему вообще сдалась? Даже читать бегло не умею. Почему он согласился со мной разговаривать? Может, я не такая уж и глупая, как решила сама про себя? Не стал же он дружить, например, со Светкой. А Стасик, пока я размышляла над собственным несовершенством, достал циркуль и нарисовал совершенно ровный круг – я ахнула от восхищения.
– А еще можешь? – спросила я.
И Стасик рисовал мне круги – большие и маленькие. Меня это заворожило. Все-таки Стасик видел красоту по-другому, и я считала, что он правильно назвал своего отчима «папой». Эти абсолютно ровные, идеальные круги были красивы, по-настоящему. Абсолютной красотой.
– Я больше так не смогу, – сказал наконец он.
– Сможешь. Только в первый раз сложно. Потом легче. Думай, что делаешь это не ради подарка, а ради мамы. Она же была рада?
– Была. Даже очень, – признал Стасик.
– Вот и хорошо. Пусть мама будет рада.
– Ладно, так и буду думать. Так легче.
Когда ветрянкой заболела и Ленка Синицына, я охотно, как никогда раньше, бежала в садик. Как же я была счастлива! Елена Ивановна, как я уже говорила, перестала обращать на нас внимание – в группу ходило от силы пять-шесть детей. Стасик разрешил мне пользоваться готовальней, и я рисовала бесконечные круги и полукруги. И случилось настоящее чудо – мне дали «слова»! К утреннику на Седьмое ноября я должна была прочитать стишок! Целых четыре строчки! Никогда раньше мне слов не давали. Да, естественно, я слышала разговор воспитательницы с заведующей, что «больше некому», «уже десять человек из группы с ветрянкой, остальные боятся заразиться и не ходят», «или отменять мероприятие». Мне было все равно, что слова я получила только потому, что «больше некому давать». Я волновалась и повторяла стишок по дороге в садик. Мне нравились репетиции, когда Елена Ивановна вызывала именно меня, и я выходила на центр зала и громко читала свое четверостишие, которое должна была читать Светка или Ленка. Елена Ивановна негодовала, поправляла меня, ругалась, что я читаю слишком тихо или чересчур громко: «Что ты орешь как резаная?», но как же мне было хорошо в тот момент! Воспитательница велела мне не проглатывать окончания, а я и не проглатывала. Я читала куда лучше Ленки и Светки, это уж точно. Вы думаете, дети не понимают, кто лучше, а кто хуже? Все прекрасно понимают. Вот Стасика Елена Ивановна считала дурачком, потому что он часто сидел, уставившись в одну точку. Когда воспитательница просила его прочитать по слогам «ма-ма» или «ка-ша», Стасик делал такой вид, что ну точно психушка на выезде. Елена Ивановна ведь не знала, что он прекрасно читает и миллион стихов наизусть знает. А в группе это знали все. То есть все дети. Поэтому Стасика не задирали и не дразнили – боялись связываться с умным. Стасиком, которому тоже достались слова, Елена Ивановна была недовольна. Он вообще стоял и молчал, задумавшись.
– Ты выучил? – кричала как полоумная воспитательница.
Но если Стасик о чем-то думал, то отвлечь его от собственных мыслей было сложно. Поэтому Елена Ивановна покрывалась красными пятнами и твердила, что «лучше бы вы заболели вместо других, а то утренник точно сорвем».
Вот тоже странно. Понятно же, что утренник сорвать нельзя, даже если очень постараться. Родители все равно станут хлопать и радоваться. Им наплевать, как ты стишок прочтешь. Они на чужих детей не смотрят, только на своего ребенка. Так что им вообще до лампочки, выйдем ли мы со Стасиком на сцену или нет. Моя мама на детские утренники не ходила – не отпускали с работы. Так что я только сама за себя могла порадоваться. За Стасика – нет, потому что он и сам был не рад читать стихи. Его мама всегда приходила на утренники и смотрела на своего сына так, словно видела впервые в жизни. Застывшая улыбка и удивленный извиняющийся взгляд. Будто Стасик только что описался на сцене на виду у всех.
Но были ведь и другие родители, а также бабушки и дедушки. Вот Светка Иванова, например, панически боялась выступать, и ее бабушка специально договаривалась с Еленой Ивановной, передавая талон в стол заказов, чтобы Светочке дали слова. Ее папа считал, что дочь надо «приучать» выступать. Елена Ивановна за талон давала слова – ей не жалко. А Светку было жаль – она, бедная, аж зеленая стояла и заикалась, пока стишок читала. А перед этим чуть в обморок от страха не падала. Перед каждым выступлением у Светки начинались рвота и понос. Она из туалета не могла выйти. Елена Ивановна, вместо того чтобы ее пожалеть, ругалась и кричала, что Света должна «взять себя в руки и собраться». Воспитательница выдавала ей аскорбинку, умывала холодной водой, чтобы Светка хотя бы до актового зала могла дойти. Несчастная девочка жевала аскорбинку и вытирала сопли рукавом нарядного платья, которое на ней трещало по швам. Я каждый раз думала, что на мне бы это платье лучше сидело, а на Светку что ни надень, все равно получается бочонок на ножках. Или сарделька. Светка в полуобморочном состоянии, с покрасневшими глазами и носом, растрепанная, выходила в центр зала, читала еле слышно стишок и убегала. Но ей громко аплодировали, и уже после утренника бабушка или папа-начальник подходили к Елене Ивановне и благодарили. «Да, Светочка стала намного увереннее». Вот уж враки. Только хуже. Лучше бы оставили ее в покое и не мучили.
Как-то я рассказала маме про Светку, которой всегда достаются слова, потому что за нее бабушка просит.
– Сейчас я буду для тебя слова выпрашивать, а потом что? Оценки в школе? – Мама рассердилась. Она считала, что я даже заикаться не смела о такой просьбе. – Это же просто неприлично! – повторяла мама.
Я тогда хорошо усвоила урок – то, что для одних неприлично, для других – в порядке вещей. И еще тогда решила: если у меня будет ребенок, я стану для него выпрашивать все, что угодно. И достану любой талон в стол заказов, лишь бы моему ребенку дали то, что он хочет. И пусть это считают неприличным. Была бы я Светкиной мамой или бабушкой, я бы любые шпроты достала, лишь бы избавить девочку от слов и публичного выступления.
Моя же мама носилась с идеей «достойна-недостойна».
– Если тебе не дали слова, значит, ты недостойна, – твердила мне она.
Неужели она – взрослая – не понимала, что достоинство покупается и продается? За духи, продуктовый набор или билеты в театр меня бы быстро сочли достойной. Да я бы в главных ролях с младшей группы выступала, как Ленка Синицына. Кто Снегурочка или Главная Снежинка? Ленка. Кто первой про маму стихи читает? Ленка.
Я поделилась этими мыслями со Стасиком. И тот совершенно не удивился. Его даже в собственной семье считали если не совсем идиотом, то уж точно «проблемным ребенком». Его мама ходила к Елене Ивановне и, наоборот, просила не давать Стасику слова на утреннике.
– Зачем ему позориться при всех? – говорила мама Стасика, нисколько не смущаясь тем фактом, что сын стоит рядом и все слышит.
– Да я совершенно с вами согласна! – отвечала радостно Елена Ивановна. – Но вы тоже меня поймите! В садике карантин, слова давать некому. Или вовсе отменять мероприятие! Я хотела отменить, но заведующая сказала, что надо провести. У нас же тоже отчетность. Мы обязаны.
– Ну вы же знаете, что он не может, – убеждала воспитательницу мама Стасика.
– Мы работаем над этим. В этом наша задача. Так что и хорошо, что карантин. Надо использовать этот шанс. Стасику будет полезно оказаться, так сказать, в центре внимания. У нас все дети равны, имеют шанс проявить себя, а наша задача – вытолкнуть ребенка, даже силой, если хотите! Для его же блага, для его будущего! – заверяла Елена Ивановна.
– Даже не понимаю, почему так произошло, – мама Стасика начинала хлюпать носом и давить на жалость, – он родился нормальный, доношенный, никаких родовых травм, девять баллов по шкале Апгар. И в роду все нормальные. Правда, его отец… я не всех родственников с той стороны знаю… Может, оттуда. Генетика, наверное… Отец его… я не смогла с ним жить… вы же понимаете. Теперь у меня здоровый во всех смыслах муж, нормальная семья. И младший Гоша растет как положено. Как по учебнику. Даже в детской поликлинике удивляются – образцово-показательный ребенок. Я думала, надеялась, что здоровая атмосфера хорошо повлияет и на Стасика. А он только хуже с каждым днем. Хотя во время карантина изменился. Резко. Сначала стал моего мужа дядей Лешей называть, а теперь иногда и «папа» проскальзывает. Я даже радоваться боюсь.
– Мы считаем, что дисциплина, воспитание и социализация важнее генетики. Лженаука какая-то. Надо работать. Мы этим занимаемся. Карантин дал нужный стимул, только и всего. Болезни, пусть и у других, часто дают подобный толчок. Ну и плюс наши наработки и опыт общения с такими детьми. Вот вам и результат! – торжественно объявила Елена Ивановна.
– Да, конечно, вы правы. И врачи так говорят. Что надо социализировать и не поддаваться на его… странности, провокации и выдумки.
– Я очень рада, что мы с вами говорим на одном языке. – Елена Ивановна, дай ей в руки детский горн или дудку, протрубила бы что-то торжественное.
– Одна радость – Гоша. Совершенно нормальный, не перестаю удивляться. – Мама Стасика показала на младшего сына, пытавшегося засунуть в нос пластилинового зайца, которого сгреб со стола. – Стасик в отцовскую породу пошел. Там все люди творческие. Его отец – архитектор, бабушка – художница.
– Да уж. Алкоголь, вседозволенность, так сказать, высокие материи. А я вам так скажу: видела вашу новую свекровь. Очень ответственная дама, старой закалки. Она точно не даст распуститься внуку, – ответила Елена Ивановна. – Кто она по профессии?
– Инженер. Но она жена военного. Свекр – военный. По гарнизонам всю жизнь, и она за ним.
– Вот и сразу видно! Уж простите за прямоту.
– Да, спасибо, – промямлила мама Стасика.
Стасик рассказывал, что новая бабушка терпеть его не может. И запрещает ему читать. Один раз даже перемотала бинтом дверцы в книжном шкафу, чтобы Стасик не смог их открыть. А еще лучше – застукать его на месте преступления – когда будет разрезать бинты – и наказать. Но Стасик своим странным математическим мозгом оценил шансы на развязывание и просто пошел за табуреткой. Его новая бабушка решила, что Стасика заинтересуют только нижние полки, и замотала дверцы внизу. А доступ к верхним оставался свободен. Так Стасик пополнил свои знания в живописи и скульптуре – на верхних полках хранились альбомы с репродукциями. Ему было все равно, что читать, что рассматривать. Зато он никогда не заглядывал под юбки девочек, потому что знал об устройстве женского тела даже побольше самих девочек. Благодаря художественным альбомам. Младший брат, по счастью, отвечал ожиданиям матери и бабушки – играл в машинки, сосал палец, ковырялся в носу, ел козявки и рано начал говорить, в отличие от Стасика, который молчал лет до трех. И младший брат явно не начал бы бегло читать и считать до ста в шесть лет, как делал это старший. И уж точно не сумел бы так мастерски скрывать свои навыки, как Стасик.
Мы обсуждали со Стасиком наших мам. И вот что меня удивило. Я на маму злилась и вообще не понимала, как мы можем быть матерью и дочерью. Да мы даже не общались! «Как дела в садике?» – «Нормально». Вот и весь разговор. Мне бы и в голову не пришло жаловаться маме или описывать, кто что сделал сегодня, что нам давали на полдник и какую песню мы пели на музыкальном занятии. А она и не спрашивала. А Стасик свою маму любил и жалел. Он очень старался, чтобы мама была им довольна, поэтому и вел себя как идиот. Лепил из пластилина чудовищных медведей и зайцев, которых Елена Ивановна даже на верх шкафчика не выставляла, «чтобы не позориться». Но я же видела, как однажды Стасик слепил ангела. С крыльями. И нимбом. И это была такая работа, что я заплакала. И плакала, пока Стасик безжалостно скатывал крылья, которые выглядели как настоящие, в комок и лепил из него положенного и одобренного для дошкольников зайца. Он вырезал для мамы цветы из цветной бумаги и клеил дурацкие аппликации. И очень переживал, что расстраивает ее своим странным поведением. Младшего брата он называл «ребенок». Без имени. Я как-то спросила, почему он так говорит.