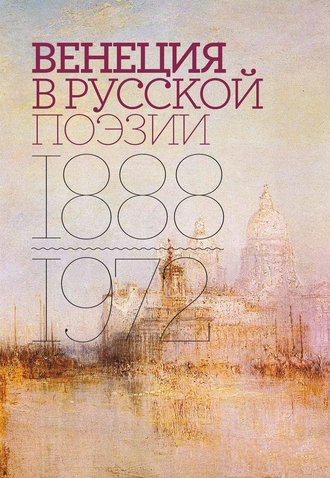
Полная версия
Венеция в русской поэзии. Опыт антологии. 1888–1972
Синьор Инсенги отвел мне небольшую комнату, выходящую окном на улицу четырехаршинной ширины, так что можно было видеть все, что делается в противоположном доме.
Когда я зажег свечу и осмотрелся, то первое, что мне бросилось в глаза, это было большое объявление от хозяина гостиницы, своею суровостью и определенностью напоминающее эдикты совета Десяти. Сначала в объявлении расхваливалась гостиница, устройство и обстановка номеров, способности прислуги, отличный вид на площадь св. Марка и т. д. Затем говорилось, что в ресторане отеля можно получить всевозможные яства и напитки в свежем и вкусном состоянии и за умеренную цену; общий обед в шесть часов вечера и т. д. Затем следовало ядовитое предостережение, что всякий из путешественников, замеченный в уклонении от табельд’ота в гостинице, обязуется платить от одной до двух лир дороже за комнату[277].
Компания русских гидов, обслуживавших организованные экскурсии (подробнее см. далее), предпочитала отель Albergo Leone Bianco, которого не знает даже Бедекер. Б. Грифцов, назначавший рандеву В. Стражеву, писал: «Быть может письмо это найдет тебя лучше, чем я ища тебя на Piazza и ты найдешь нас в Albergo Leone Bianco, что сейчас же позади прокураций, camera № 9. До пятницы пребудем здесь»[278]. Там же Е. Муратова (тесно связанная с этим кругом) ждала приезда из Москвы В. Ходасевича, о чем сама вспоминала много лет спустя: «Затем встреча в Венеции на лестнице отеля „Leone Bianco“. Я „танцовщица“, Владислав лечится от туберкулеза в Нерви»[279]. Она же вспоминала о встрече с Грифцовым, который приходился ей кузеном: «Проездом я была в Венеции. Однажды утром я слышу за стеной, в соседнем номере гостиницы „Leone Bianco“, знакомый голос. Я ужасно обрадовалась. Боря приехал из Москвы в Италию. Был гидом, водил русских туристов, позднее к нему присоединился поэт Владислав Ходасевич, которого он очень ценил»[280].
Некоторые из путешественников, особенно рассчитывавших на пляжи и купание, предпочитали жить на Лидо, где был один большой и роскошный отель Exelsior[281] (с 1900 года конкуренцию ему составлял Grand Hotel Des Bains) и множество небольших и непримечательных гостиниц, расположенных вдоль береговой линии. В одной из них поселился Л. Андреев с женой и сыном, о чем в своей обычной манере рассказывал матери:
Милая моя маточка, вот мы и в Венеции, подвинулись немножко к дому. Приехали мы вчера утром, и оказалось, что погода тут размокропогодилась, совсем ненастье, дождь и ветер в хвост. Долго мы искали гостиницу, и наконец устроил нас Господь в двух комнатках, похожих на небольшие ватерклозеты – но зато на Лидо, где кроме нас живут все остальные – тоже аристократы и грахфы. И хотя дождь шел главным образом наружи, в наших клозетах так сыро, что утром сегодня, когда я встал с постели, Анна меня выжимала. Кроме того, Анна вчера потеряла квитанцию от вещей, а в вагоне мы забыли машинку, но и она, дьявол, и все остальное нашлось, а то вчера под голову я клал две лиры пятьдесят чентезимов. <…> Вчера в пансионе нашем на обед давали маслины с засахаренными яблоками и сардинки со свежим апельсином, и Анне очень понравилось, я тут же за столом разрыдался и вообще долго катался по полу. Подает нам кушанья (они это так называют) сам диретторе, господин красоты неописанной, изящества невыразимого, ума необъятного; одет он в черный сюртук с талией и борода у него такая, что так бы вцепился в нее обеими руками и не выпустил. Ко мне он относится, как к младшему сыну. А сама синьора диретрисс председательствует за столом, сама говорит, а сама так и смотрит в рот, сколько взял; и слышно, как шепчет: чтобы ты подавился, сукин сын. А портье изучает языки, уже изучил семь языков, в том числе и русский по самоучителю. Знает по-русски две фразы: «Бог есть на земле» и «Скажите, казначей дома? – Нет, казначея нет дома»[282].
Конечно, приведенный список венецианских отелей не только не является исчерпывающим, но даже не приближается к нему: у нас, например, нет никаких сведений (за исключением простого упоминания) о гостинице Albergo Ferrari Bravo, где жили экскурсанты из группы И. М. Гревса[283] и Casa Kirsche, где останавливался И. Грабарь[284]; мы ничего не знаем об Hôtel Belvedere, где летом 1899 года Вяч. Иванов и Л. Д. Зиновьева-Аннибал скрывались от ревнивого мужа последней[285]; очень мало нам известно об Hotel Neumann, где жили Блок с женой[286] (характерно, что в принадлежавшем им бедекере помечены две другие гостиницы[287]) и т. д.
Иные путешественники, особенно в 1950‐е годы, вообще предпочитали останавливаться еще на материке – так, К. Померанцев, путешествовавший по Европе на двух колесах, выбирал себе отель в районе Местре: «Несись же, мотоцикл! Несись во въедающийся в глаза, в уши, в рот, в каждую пору венецианский блеск. Несись! Взрывай этот мир, сметай его сытое благополучье! Остановился, как прошлый раз, сразу же при выезде с автострады, за десять километров от Венеции: просто и дешево. В самой Венеции больше для благополучных: звездочки и комфорт. Горячей воды в комнате не было и мотоциклетный загар пришлось смывать химическим порошком „Омо“»[288].
Дополнительную сложность этой области придает взаимное аффилирование гостиниц и ресторанов: так, среди финансовых бумаг Брюсова хранится счет на бланке Orientale cappello nero, где отмечено трехдневное проживание в номере 41, две чашки кофе и какие-то неразборчивые мелочи[289]. Отеля такого в венецианском реестре нет, но есть кафе Capello Nero, имевшее общий вход с уже известным нам отелем Bellevue: «Хозяин кафе оказался в то же время и владельцем гостиницы, которую прежде, как говорят, держала какая-то немка из Австрии. Новый патрон хотя и был вежлив к путешественникам, но в то же время имел вид суровый и мрачный. Таковы почти все содержатели отелей, которых мне приходилось наблюдать в Северной Италии; все они мрачны, все куда-то торопятся, вследствие чего и имеют вид несостоятельных должников»[290].
21
Кстати, о ресторанах. Русский турист в массе своей гурманом совсем не был, да и Венеция (как и Италия вообще) отнюдь не воспринималась как место, располагающее к чревоугодию. По большей части приезжие столовались там же, где и жили: это считалось само собой разумеющимся, и даже предполагалось, что владелец отеля может слегка уступить в цене комнаты, чтобы наверстать упущенную прибыль за табльдотом. В тех (кажется, не слишком частых) случаях, когда путешественника это не вполне устраивало, причины скорее были социального плана, нежели гастрономического. В эпистолярных венецианских сетования З. Гиппиус нет ни слова про качество еды – а только про соседей по завтраку: «Есть и здесь, как везде, свои мрачные стороны, а именно: табльдот. Мучительнее и нелепее этой выдумки я ничего не знаю. В былое время, когда люди не сторонились так друг друга… Теперь же это ужасно. Ни одного русского. Все мучительно-гранитные англичане, которых я теперь ненавижу. Один в особенности: ест медлительно и засовывает в рот вилку до самой рукоятки»[291].
В тех случаях, когда качество провизии решительно не устраивало, можно было попробовать сменить место трапезы. А. Н. Бежецкий, в номере гостиницы которого висело особое предупреждение, обещающее штраф в 1–2 лиры тем, кто станет манкировать общими обедами, решил все-таки нарушить это предписание:
Помня угрозу хозяина отеля, я отправился предварительно в его кафе завтракать, но там мне дали такое скверное молоко к кофе, что я поклялся более сюда ни ногой, тем более что в этом кафе, на большом столе, нагруженном провизией, рядом с земляникой стояла сырая рыба, отбивавшая своим запахом весь аппетит. Я, впрочем, скоро разыскал другой ресторан тоже поблизости, принадлежащий содержателю отеля «Italia», австрийцу Гринвальду, где питаются все иностранцы[292].
Большинство путешественников либо не упоминают еду вовсе, либо ограничиваются проходным замечанием: «Шумный ужин с неизбежными макаронами, веселые лица итальянцев, прислуживающих за столом, пение „Santa Lucia“ – все весело, все хорошо!»[293] или «Завтракали в кухмистерской средней руки с вином за 2 фр.»[294] – лишь редко снисходя до надменной похвалы: «…Я должен сказать, что богатым немцам далеко до нищих итальянцев по части кухни и, вероятно, именно потому, что последние такие нищие. Так есть, как я ел тут и за такую цену, я в Германии нигде не ел. Но и дешевизна же тут, просто невероятно»[295]. Собственно, большая часть рекомендаций по гастрономической части весьма расплывчаты и лишены имен собственных: «В центре, около Piazza S. Marco, на одной улице есть целая серия очень хороших и дешевых маленьких ресторанов. Не помню названия улицы и ни одного из ресторанов, но Вы можете справиться в каком-либо из тех многочисленных магазинов, где продаются бусы. Меня туда отправил один такой старичок-продавец»[296].
Более того, достаточно частый мотив в венецианских травелогах – ощущаемое тонкой душой путешественника жгучее противоречие между многовековыми декорациями и низменной прожорливостью туристов. Иногда это встраивается в общие ламентации по поводу упадка нравов («Но времена меняются: там, где прежде жила Дездемона, теперь открыт ресторан; где жил Отелло – торгуют стеклом, на мосту Риальто и около него разбросаны дрянные балаганы, в которых торгуют всяким скарбом; дворцы патрициев испещрены крикливыми вывесками и банальными рекламами; воды, былые зеленоватые воды каналов, не исключая Большого канала, наполнены разной вонючей ветошью и отбросами…»[297]); иногда – представляется отдельным огорчением:
Кто ходит теперь по пустым гулким залам? Кто ломает бледные руки под сказочными плафонами Тинторетто? О чем задумались усопшие дожи на почерневших холодных полотнах? Кто, опьяневший от стонов и крови, разыгрывает странные мистерии в той комнате, которая так не удовлетворила туристов? Но время ли помнить об этом в уютной каменной зале площади St. Marco, обращенной во всемирный ресторан.
У тонких колонн упраздненной Прокурации рядами белые столики. Звенят венецианские рюмки, шмыгают лакеи, гудит легкомысленный улей веселых гостей. Пьют, смеются, напевают, посылают через столики цветы и немые вопросы. И в ответе качаются разноцветные страусовые перья, шуршат оборки шелковых юбок и скрещиваются на миг опьяненные взгляды, а ночь нежна и равнодушна, как продажная ласка чьих-то красивых спокойных рук[298].
Это же зрелище столиков на пьяцце возмутило другую нашу свидетельницу, дочь Л. Андреева:
Мы спустились на площадь, являвшуюся самым большим сухим пространством города. По сторонам ее расположены были многочисленные кафе и рестораны с выставленными на панель столиками. «Все-таки в еде есть что-то безнравственное, – подумала я, – такое низменное занятие! И неужели нельзя обойтись без нее? Вокруг такая красота, а эти люди с плотоядным блеском в глазах, с лоснящимися от жира губами, жуют, глотают, обсасывают кости цыплят с единственной заботой наполнить свои бездонные желудки – какая гадость![299]
Приятным исключением на этом фоне выглядел И. Ф. Анненский, подробно описывавший в письмах домой свои гастрономические впечатления:
Набегавшись часам к 4–5, идем в какой-нибудь скромный ресторан. Тут кормят плоховато, но сытно и дешево. На первое кушанье я беру обыкновенно суп con piselli, т<о> е<сть> с горошком и рисом, в него прибавляют еще целое блюдечко тертого сыру… На второе беру Costoletta alia Milanese или Vitello (телятина). За обедом пью местное вино с водой и заедаю скромный обед кусочком сыру. Вот и все[300].
Это подтверждается записной книжкой с тщательно зафиксированными расходами, которую он вел в путешествии. Так, среди трат дня, предшествующего этому письму, значится «сaffe nero» (35 чентезимо), «zuppa a piselli» (40), «filetto al Madera» (80), «formaggio parmegiano» (20), хлеб (5) и вино кьянти (75)[301].
Что касается последнего, то снисходительность туриста к местным напиткам простиралась обычно дальше, нежели к местной пище. Чрезвычайной редкостью был убежденный трезвенник, наподобие В. Р. Менжинского, будущего председателя ОГПУ, а на тот момент – скромного интеллигента, начинающего прозаика: «Петербуржцу естественно вспоминать своих и писать письма в стиле Пал Палыча <Конради>, т. е. написать целую страницу и ничего не сказать. Впрочем, я веду дневник: 30-го утром пил цитронад со льдом на площади Св. Марка, в 4 часа – на Лидо; в 8 часов – перед мостом вздохов и пр.»[302]. Другой крайностью выглядел И. Бунин, фраппировавший венецианских официантов своей требовательностью по части напитков: «Италию впервые в Венеции увидал. Почему-то на вокзале стал требовать разного вина. Принесут бутылку, а я другого хочу попробовать, получше. Бутылок двадцать принесли. А я всё говорю „ancora“. Весь стол заставили, бегают, обалдели совсем, ничего не понимают. Потом начали хохотать, как сумасшедшие»[303]. Классический же турист хоть и не без оговорок, но снисходил к продукции местных виноделов: «Сидим на веранде у моря и пьем холодное „асти“»[304]; «Читаю только итальянские газеты, пью только итальянское вино. Газеты скверные, вино – тоже. Цена вину – от 50 сент. до 1 лиры за ½ литра. Красное лучше белого»[305] и т. д. Иногда желание продегустировать аутентичные напитки встречало почти непреодолимые трудности в форме языкового барьера:
Незнакомый сиплый голос говорил:
– Русским языком я тебе говорю или нет: принеси мне лампадочку вермутцу позабористее.
Голос слуги при кабинках – старого выжженного солнцем итальянца-старика в матроске (я его видел раньше) отвечал:
– Нон каписко.
– Не каписко! Чертова голова! Не каписко, а вермут. Ну? Русским языком я тебе, кажется, говорю: вермуту принеси, понимаешь? Винца!
– Нон каписко.
– Да ты с ума сошел? Кажется, русским языком я тебе говорю… и т. д.
– Слушайте! – крикнул я. – Вы русский?
– Да, конечно! Кажется русским языком говоришь этому ослу…
– На них это не действует… Скажите ему по-итальянски…
– Да я не умею.
– Как-нибудь… «прего, синьоре камерьере, дате мио гляччио вермуто»… Только ударение на у ставьте. А то не поймет.
– Ага! Мерси. Эй ты смейся, паяччио! Дате мио, как говорится, вермуто. Да живо!
– Субито, синьоре, – обрадовался итальянец.
– То-то брат. Морген фри[306].
Путеводитель Лагова рекомендовал рестораны Savoy Restaurant et American Bar («C сев. – зап. стор. площ. Св. Марка. Французск. кухня. Завтр. – 3 л. Обед – 4 л.»), Bauer Grűnvald («На Calle Larga Ventidue Marzo (ряд. с гост. Италия). Веранда. Немецк. пиво») и Academia («Удобен для посещающих Академию художеств. Простой»[307]). Путеводитель Филиппова тоже советует Бауэра, а также «Пильзен, Нейман, Капелло-Нэро»[308] («Нейман» – это, вероятно, Hotel Neumann, где жил Блок, а «Капелло-Неро» – несомненно Capello Nero, где останавливался Брюсов).
Близки к этому были рекомендации В. Немировича-Данченко, который, впрочем, ресторан Бауэра не любил (выше мы приводили его отзыв): «Хотите есть хорошо, дешево и весело, идите в чисто итальянские рестораны: на Мерчерии в Capello Nero, в Vapore[309], за площадью св. Марка в Citta di Firenze. Хотите платить дороже, ступайте, тут же, под Прокурациями, к Квадри – у него на стенах кстати картины величайших мастеров!»[310]
Названное последним кафе Квадри – одно из трех знаменитых кафе, располагавшихся на пьяцце – Florian, Aurora, Quadri и единогласно рекомендуемых путеводителями. В русской литературе больше всего повезло первому из них – не считая отдельной новеллы в цикле И. Эренбурга «Условные страдания завсегдатая кафе»[311] и россыпи поэтических упоминаний, учтенных в нашей антологии, оно запечатлено – хоть и мимолетно – в десятках прозаических текстов: «Заходил ли он в кафе, шумное и ярко освещенное электричеством, он грезил, что сидит под арками кафе Флориана, о котором упоминается в записках всех путешественников по Венеции»[312]; «На открытом воздухе сидели за разноцветными столиками посетители кафе „Флориан“, ели крем карамелата, слушали маленькие струнные оркестрики и бойко раскупали у бродячих продавцов сувениров игрушечные гондолы с музыкальным ящиком и балериной в газовой юбочке, которая, стоило только слегка повернуть ключик, начинала кружиться под нехитрую мелодию»[313]; «Сижу перед кафе Флориан на площади Св. Марка, под арками. За большими полосатыми занавесками солнце милостиво – тень, пронизанная светом. Вкусна в холодном стакане малина со льдом»[314] и мн. др.
Чрезвычайно показательно в туристах было недоверие к рациону местных жителей. Лишь некоторые, особенно отважные, осмеливались попробовать какие-нибудь из классических венецианских блюд: «В 12 часов позавтракали по-итальянски: криветки
Кто не знает тратторий для простонародья, тот не знает Венеции.
На Виа алла поста есть одна такая траттория, мимо которой я часто проходила, торопясь за письмами с родины.
Низкая проволочная сетка отделяла от улицы кухню, которая была одновременно и трактирным залом. Прямо за сеткой стояли кастрюли, тарелки и готовые порции рыбы и поленты.
По дьявольскому треску, с каким в этой траттории шипели жирные сковородки, по убийственному запаху рыбьего жира и оливкового масла и, наконец, по тучности владельца можно было заключить, что это был один из самых популярных трактиров в этой части города.
Посетители толпились там весь день. Одни полеживали на мосту и на берегу канала, ожидая полудня, другие вытаскивали сети и пластали рыбу, отбросы которой без всякой помехи разлагались на солнце.
Чтобы войти в такой трактир, надо, по-моему, не есть со вчерашнего дня и иметь сильный насморк[316].
Особую неприязнь у заезжих экскурсантов вызывали разнообразные дары моря, употребляемые в пищу аборигенами:
Мы шли узенькими уличками; справа и слева тянулись необычайные съестные лавки с такими кушаньями, что от них православного человека, пожалуй, только бы затошнило: пьевры, полиппо сепии, безобразные белые мешки с щупальцами и целою массою белых же, усеянных бородавками присосков, вываливающихся из мешка, рыбы, состоявшие из одной головы, с выпученными глазами, раковины, из которых выдавалась противная красная масса, мелкие ракушки, словно груда черных орехов, изредка даже торчал громадный омар, усы которого грозили перегородить улицу, так она была широка, целые груды вареной брюквы, брокколи, гирлянды чесноку и перцу, гроздья винограда и опять длинные черви, раковины, похожие на сигары, из которых высовывались, шевелясь, какие-то бесформенные, похожие на слизь тела, – вся эта роскошь, frutti di mare, собранная со дна лагун и каналов, откровенно выставлялась в открытых дверях и окнах, а то arrosteria с массою жареной рыбы – frittura. К вечеру от нее и хвостиков не останется[317].
Единственное исключение делалось для устриц, привычных для аристократического меню, – но и здесь гурманов поджидала тайная опасность. В 1887 году И. Остроухов, В. Серов и двое братьев Мамонтовых (с эпизодами путешествия которых мы уже встречались выше) жили в Венеции; Остроухов, хорошо помнивший прошлогодний холерный карантин, решительно предостерегал своих спутников от питья сырой воды и употребления свежих frutti di mare, но Серов был непреклонен: «Ты можешь мнительничать сколько хочешь, а я воду пить стану сырую и устрицы буду есть»[318]. На завтраке в отеле он потребовал устриц, которых не нашлось. За обедом история повторилась, как повторилась она и на следующий день. Настойчивый Серов поклялся устриц все-таки раздобыть, для чего они отправились в заранее рекомендованный общим знакомым (и известный уже читателю) ресторан Al Vapore:
Действительно, очень мило. Садик. В укромном уголке нам накрыли стол, и Серов заказал устриц.
Я не протестовал – успокоился, не видя никакой холеры: солнце такое яркое, толпа такая веселая, карболкою не пахнет, и когда слуга как-то странно, прикрывая блюдо боком фрака, принес устриц и поставил перед нами, то даже и я съел их две или три. Остальное, конечно, было скушано спутниками. Серов не преминул поиздеваться.
– Эх ты! Трусишка! Что же не ешь? Прекрасные устрицы и ничего от них не будет!
Наступило время идти обедать. Направились домой, и вдруг кто-то из товарищей, не доходя площади св. Марка, как-то побледнел и говорит, что чувствует себя скверно.
– Резь в животе.
Другой признается в том же. Наконец, что-то неладно и со мной. С трудом и в великом беспокойстве достигаем гостиницы. У входа на обычном месте сидит милый старичок Зандвирт. Мы говорим, что чувствуем себя нехорошо, так и так, мол.
– Где вы завтракали?
– В Al-Vapore.
– Хороший ресторан. А не ели ли вы устриц или frutti di mare?
– Да.
– Боже мой! Да разве можно! Как вам их дали?! Ведь холера еще совсем не кончилась, и устрицы у нас запрещены синдиком. Недавно у меня умер австрийский офицер; тоже отравился устрицами. Не подумайте, что я хочу содрать с вас что лишнее, но я сейчас пришлю вам в комнату бутылку коньяку, выпейте возможно больше, лягте в постель и укройтесь потеплее.
Конечно, ввиду всех ужасов, принялись за коньяк. Кому стало лучше, кому еще хуже. Послали за доктором и дня два провалялись в постелях[319].
Сохранился редкий по выразительности документ – письмо непосредственного виновника, написанное по горячим следам после истории с устрицами и под сильным влиянием присланного отельером лекарства:
Милая моя Лёля,
прости, я пишу в несколько опьяненном состоянии.
Да, да, да. Мы в Венеции, представь. В Венеции, в которой я никогда не бывал. Хорошо здесь, ох, как хорошо. Вчера были на «Отелло», новая опера Верди: чудная, прекрасная опера. Артисты чудо. Таманьо молодец – совершенство. Прости, я, действительно, несколько пьян. Видишь ли, вчера мы поели устриц, сегодня наш хозяин гостиницы докладывает, что у него был один несчастный случай, один немец съел пять дюжин этих устриц и умер в холере (здесь ведь была холера – ты это знаешь). И во избежание холеры мы достали бутылку коньяку (говорят, хорошее средство), по всем признакам холера нас миновала. Лёля милая, дорогая девочка, я люблю, очень люблю тебя. А какая славная опера «Отелло», какая страстная, кровавая. Ты любишь меня, а? Знаешь, я тебя часто, очень часто, вспоминаю. Какая здесь живопись, архитектура, хотя собственно от живописи ждал большего, но все-таки хорошо, очень хорошо. Хотел писать тебе вечерком, но сегодня какой-то дождливый северный день – мы сидим дома (ты знаешь, кто это мы? нас четверо: Остроухов, двое Мамонтовых, славные юноши). Если путешествие будет идти таким же порядком, как до сих пор – то ничего лучшего не знаю. Холера – она прошла, положительно ее больше нет. Прости, прости, моя милая, хорошая. Вот-с как, написал я свой плафон, надоел он мне до некоторой степени. Деньги за него получил, и вот я кучу. Езжу по Италии, славно. Целую тебя, моя дорогая. А все-таки другую не буду любить так, как тебя, моя, моя хорошая. Да, да, ведь ты моя. Ох, прости меня, но я люблю тебя. У меня совершенный дурман в голове, но я уверен, что все, что делалось воображением и рукой художника – все, все делалось почти в пьяном настроении, оттого они и хороши эти мастера XVI века Ренессанса. Легко им жилось, беззаботно. Я хочу таким быть – беззаботным; в нынешнем веке пишут все тяжелое, ничего отрадного. Я хочу, хочу отрадного и буду писать только отрадное. Жаль, сегодня погода дрянь, приятно здесь развалиться в гондоле и ездить по каналам и созерцать дворцы дожей.
Прощай, целую тебя без конца.
Твой без конца В. Серов[320].
Немногие воспитанники натуральной школы, с особенным вниманием относившиеся к тайной физиологии города, рисковали проснуться пораньше, чтобы отправиться на рынок к мосту Риальто:
Весь берег оцеплен особыми лодками, с прорезами для воды, обвален огромными пузырями-плетушками, – своеобразными садками для живой рыбы. На берегу везде – грязь и лужи. Вода сочится и течет отовсюду, из чанов и лотков; воду выплескивают, ничтоже сумняшеся, вам под ноги; бесчисленное множество столов, чанов, громадных железных тазов, полных свежею рыбою, расставлено на берегу. Неистощимые пучины моря щедро кормят беспечного венецианского пролетария своими драгоценными природными дарами; редко где встретите вы такое изумительное обилие и разнообразие всевозможной морской твари, как в венецианской Pescheria в базарные дни. Тут груды морских угрей и миног, длинных и вертлявых как змеи; тут целые горы омаров, краббов








