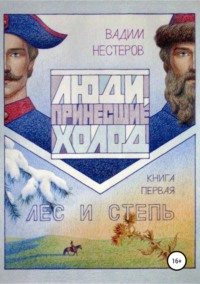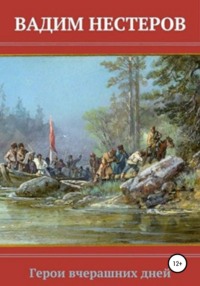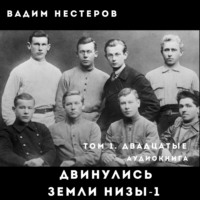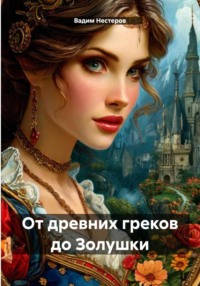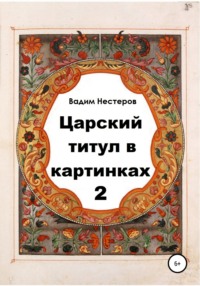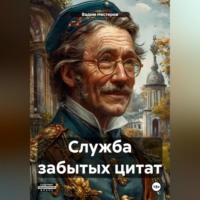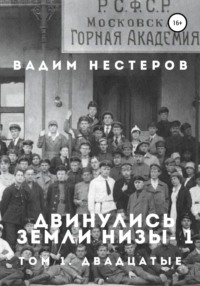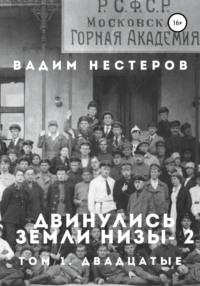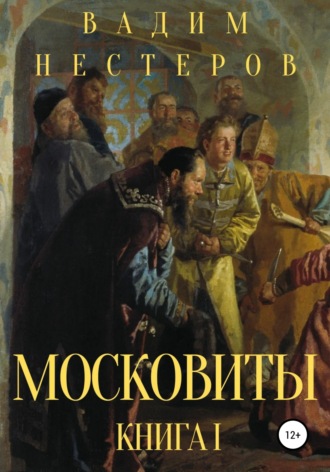
Полная версия
Московиты. Книга первая
Но страшные сказки и мрачные саги – особый жанр. Пока счастливые родители светятся изнутри, челядь носится по дому как испуганная, а народ, раскланиваясь при встрече, довольно интересуется: «Слышал, кум? Сын у князя-то, не девка какая. Дал бог наследника, значится…» – непременно должно случиться что-то ужасное. Счастье в сказках никогда не длится более одного мгновения – непременно явится какая-нибудь обиженная невниманием злая фея, дозорный на вышке заорет: «Враги идут!», или просто и незамысловато сглазят младенца – в общем, что-нибудь, да испортит праздник.
Жизнь же, с которой мы списываем нашу сказку, чаще обходится без этих мелодраматических эффектов. Все проще и страшнее. Так и на сей раз – как бы ни были счастливы родители, их ликование было сдобрено изрядной толикой бессильной тоски. Младенец был проклят с рождения, и жизнь, которую он, заполошно крича, начал пару часов назад, не сулила ему ничего хорошего.
Родители гнали от себя эти мысли, не желая портить счастливый миг, но они не могли не понимать, что легкой судьбы у Васи не будет. И избавить его от напастей у них вряд ли получится – все было предрешено задолго до появления на свет пятого сына Великого князя. Забегая вперед, признаемся – реальность превзошла даже самые худшие ожидания князя и княгини.
Рок, нависший над младенцем, имел вполне конкретное имя – Юрий и приходился он новорожденному родным дядей.
Приговор, который был подписан мирной жизни и младенца, и всего Московского княжества, включал в себя всего 23 слова. Звучал он так: «А по грехом отымет Бог сына моего князя Василья, а хто будет под тем сын мой, ино тому сыну моему княж Васильев удел»
Это строки из завещания деда нашего Васи – знаменитого русского князя по имени Дмитрий, по кличке «Донской». Но здесь придется отвлечься и поговорить немного о практиковавшейся тогда системе наследования, тем более, что простой ее не назовешь.
Прежде всего – пусть вас не смущает оспариваемый титул «Великий князь». Тогдашняя система власти вовсе не напоминала знакомую всем по школьному учебнику европейскую чеканную пирамиду феодальной иерархии с королем (великим князем) на вершине. Какая там пирамида! Скорее уж – непрерывно перемешиваемая «солянка сборная».
Во-первых, не было никакой непрерывной цепочки передачи власти от отца к сыну. Титул «великий князь» наследовал не старший сын, а старший в роду. Представим себе этого гипотетического короля с вершины пирамиды. Пусть после его смерти титул перешел к старшему сыну, а другие сыновья остались при старшем брате. Идут годы, у сыновей рождаются дети – внуки нашего короля. Но после смерти старшего сына титул получает не его первенец, а его младший брат – второй по старшинству сын короля. Дальше на очереди – третий, четвертый и так далее. И лишь после смерти всего второго поколения титул отойдет наследнику старшего сына короля. Можете себе представить, как все запутается уже через пару поколений.
Далее – семьи в те времена низкой рождаемостью не отличались. В России вообще вплоть до двадцатого века была самая высокая в Европе рождаемость, в среднем женщины рожали по 7,5 детей (у ближайшего преследователя – Болгарии этот коэффициент был 7,0, у Литвы, Румынии и Сербии – 6,5)[1]. В общем, темпы воспроизводства у нас были стопроцентно азиатские, и власть имущие в этом плане ничем от своего народа не отличались, а если и отличались, то только в большую сторону. К примеру, у того же Петра Первого было пять братьев: Дмитрий, Алексей, Федор, Симеон, Иван (Петр – шестой, младший), и десять сестер: Евдокия, Марфа, Анна, Софья, Екатерина, Мария, Феодосия, Евдокия, Наталья и Феодора. Общим счетом – шестнадцать душ, правда, от двух жен.
Нетрудно понять, что через несколько поколений великокняжеская семья разрасталась настолько, что просто не могла функционировать как единое целое. Что тогда происходило? Правильно. Срабатывал принцип пчелиного роя – какая-нибудь из родовых ветвей отпочковывалась, выделялась в отдельную семью, ее глава немедленно называл себя «великим князем» и все начиналось сначала.
Два завершающих штриха. Во-первых, территория делилась между сыновьями. Полученный кусок каждый из них опять дробил между своими отпрысками. Процесс не прерывался и от перспективы раздробления «всея земли русской» на уделы величиной с носовой платок спасали только высокая смертность (удел покойного, не оставившего наследников, делился между братьями) да собственнические инстинкты родственников, никогда не брезговавших присоединить к своим владениям чужой кусок с помощью законных или незаконных методов.
Во-вторых, не следует думать, будто великий князь безраздельно повелевал всеми своими братьями, сыновьями, племянниками и т.п. Отнюдь. Наши предки весьма активно претворяли в жизнь известный лозунг Бориса Николаевича Ельцина «берите столько суверенитета, сколько сможете унести». Да, княжество, где правила та или иная семья, формально считалось единым. Но на деле каждый из братьев на своей территории, полученной в наследство, был полным хозяином, и подчиняться никому не был обязан даже по закону. Отношения скорее были родственными – старшего брата чуть больше уважали, как главу семейства.
Если читатель продрался через эти дебри средневековой юриспруденции, то для него процитированное выше завещание Дмитрия Донского звучит совершенно недвусмысленно. По давней, освященной авторитетом предков традиции после смерти счастливого отца позднего ребенка Василия Дмитриевича первенство в «московской семье» должно было отойти второму сыну Дмитрия Донского – Юрию Дмитриевичу.
Но пора уже познакомиться и с этим героем нашего рассказа…
_____________
[1]Демографическая модернизация России: 1900-2000. М.: Новое издательство. 2006. С. 158.
Глава третья, в которой рассказывается о злодее, который им быть не хотел
Сразу скажу – во всей приключившейся истории Юрий традиционно считается главным злодеем – именно на него вешают вину за произошедшее едва ли не все учебники. Меж тем второй сын Дмитрия Донского, Юрий, был весьма приличным князем и неплохим человеком. Крестник великого Сергия Радонежского, он был очень популярен в народе. И немудрено – если бы тогда были в ходу характеристики с места работы, то описание нашего героя пестрело бы словосочетаниями «хороший хозяин», «смелый воин», «талантливый полководец» и, главное, «глубоко благочестивый человек».
При разделе имущества он получил от отца два города – подмосковный Звенигород и далекий, затерянный в лесах Галич. Кроме положенной доли в Москве, естественно – столица традиционно делилась между всеми сыновьями как праздничный торт, каждому доставался свой сектор, с которого он и собирал денежку.
Галич, кстати, был не тот древний русский Галич, которому самая западная область нынешней Украины – Галиция обязана своим названием. Нет, это был его тезка, так называемый Галич Костромской или, иначе, Галич Мерьский. Неблагозвучное название к мерзости отношения не имеет, а происходит от названия фино-угорского племени «меря». Это был практически пограничный город, северо-восточная окраина московских владений. Здесь, в густых северных лесах, заканчивалась территория, издавна населенная русскими и начинались владения, населенные чуждыми племенами.
Пусть вас не удивляет отдаленность друг от друга владений Юрия. Подобная чересполосица тогда была в порядке вещей – территориальные владения завещались примерно так же, как и вещи, без всякого порядка, что у князей, что у бояр. Эту шубу одному сыну, тот серебряный кубок – другому, этому – городок на севере, пару сел на юге, и несколько кварталов в Москве. Пусть с них налоги собирает, на жизнь хватит. Принцип территориальной близости не только не соблюдался – его скорее старались избегать, опасаясь обычных тогда сепаратистских умонастроений. Когда твои владения раскиданы по всему княжеству – попробуй-ка, отделись. Так и мотались хозяева по всей стране, посещая вкрапленные в нее владения.
Получив наследство после смерти отца в 1389 году, пятнадцатилетний Юрий перебирается в Звенигород, где и оседает на следующие 36 лет. Почти сразу юный князь проявил себя, как сказали бы сегодня, крепким хозяйственником. Подданных не прижимал, три шкуры не драл, скорее уж наоборот. Именно при нем Звенигород расцвел пышным цветом, правление Юрия Дмитриевича было поистине «золотым веком» этого города. Практически все нынешние туристические достопримечательности Звенигорода, на которые мухами слетаются туристы, остались городу в наследство от князя Юрия.
В немалой степени этот расцвет был следствием второго таланта Юрия – воинского. Младший брат великого князя считался опытным и умелым полководцем, и эту репутацию он подтвердил на самом излете 14 века. В 1399 году 26-летний Юрий по велению старшего брата «сел на конь», и пошел со своей дружиной в набег на волжскую границу. Волга тогда была поделена – в верховьях жили русские, а ниже обитали местные племена: давно принявшие ислам волжские болгары[1] и оставшаяся языческой «черемиса» – предки нынешних чувашей, мордвы и других волжских народов.
И те, и другие давно уже осели, обзавелись городами и были такими же данниками татар, как и русские. По сути, эти народности служили своеобразной прослойкой между Лесом, занятым русскими, и Степью, принявшей татар. Во владения южных соседей русские поначалу не совались, но когда у татар начались междоусобные разборки, и им стало не до своих вассалов, осмелевшие славяне начали потихоньку пощипывать волгарей. Те, впрочем, тоже огрызались. Незадолго до похода Юрия они разорили самый дальний русский форпост на великой реке – Нижний Новгород, поэтому-то великий князь, решив не спускать наглости, и отправил брата в карательную экспедицию.
С заданием Юрий справился блестяще – трехмесячный рейд принес ему всенародную славу. Огнем и мечом прошелся Юрий по Волге и захватил богатые волжские города Болгары, Жукотин, Казань и Кременчуг («тезка» известного украинского города). Это была блестящая победа русских – никогда еще они не заходили так далеко в чужие владения. Кроме морального удовлетворения и народной любви, Юрий получил и изрядную материальную компенсацию за свои подвиги в виде богатой добычи: «воююще и пленяще землю их, возвратишася со многим богатством в свояси».
После этого рейда жизнь Юрия изменилась. Из категории «гордый, но небогатый» он сразу же переместился в категорию завидных женихов. Именно эти деньги и стали стартовым капиталом для хозяйственной деятельности Юрия. Предпринимателем он оказался успешным – все знали, что деньжата у звенигородского князя водятся. Кроме того, он наконец-таки женился – в 1400 году Юрий сыграл свадьбу с княжной Анастасией, дочерью своего тезки смоленского князя Юрия Святославича. Жениху тогда было 27 лет – возраст более чем зрелый, что-то вроде нынешнего сорокалетнего. По нормам тех времен, когда средняя продолжительность жизни вполне укладывалась в три десятка годов, а пятидесятилетний считался старцем, Юрий женился очень поздно. Свадьбу гуляли в столице, в Москве, и нельзя было не порадоваться, глядя на князя. Ну все при нем – и басурман пограбил удачно, и женился неплохо, и о душе не забыл. Зрелый мужчина в полном расцвете сил, богатый и популярный. Очень положительный персонаж.
После свадьбы жизнь Юрия пошла в гору. Города его, управляемые умело и грамотно, богатели, но богатство Юрию Звенигородскому очи не застило. Часть своих денег он пустил на самое благородное по тем временам дело – на торжество веры православной. Сразу по возращении из памятного набега он жертвует в обитель, основанную монахом Саввой «злато довольно и селы, много имения довольно на строение монастырское». Из этого, как сейчас бы сказали «совместного проекта» князя и монаха вырос знаменитый Саввино-Сторожевский монастырь. Кроме того, в том же победном 1399 году просвещенный правитель (а Юрий был «просвещения сподоблен» от своего знаменитого крестного, Сергия Радонежского, о начитанности князя упоминают и другие источники) закладывает в Звенигороде в честь своей победы белокаменный Успенский собор на Городке. Позже был возведен и Рождественский собор Саввино-Сторожевского монастыря.
Кстати, именно Юрию Звенигородскому мы обязаны тем, что у нас есть Андрей Рублев. Именно младший брат великого московского князя приметил тогда еще никому не известного иконописца, своего ровесника и пригласил его в Звенигород расписывать свои соборы. Именно в подмосковном Звенигороде находятся самые ранние из известных работ художника – в тамошних соборах до сих пор сохранились фрагменты фресок работы Рублева или его товарищей. Кроме того, именно во время своей работы в Звенигороде Рублев написал иконы, известные теперь под названием «Звенигородский чин».
С Юрием связано не только раннее творчество великого иконописца. И на пике творчества Рублева, в период, когда он создавал свои самые великие творения, рядом с его именем мы опять находим имя князя Юрия. В 20 годы 15 века галицкий князь решает отдать дань уважения своему великому крестному и финансирует строительство в загорском Свято-Троицком монастыре (мы его знаем как Троицко-Сергиеву Лавру) нового каменного храма – Троицкого собора. Расписывали новостройку самые именитые тогда на Руси богомазы – Андрей Рублев и Данило Черный. Ценность икон Рублева, кстати говоря, прекрасно понимали задолго до возникновения моды на русские иконы – эти произведения искусства считались настолько ценными, что использовались сильными мира сего в качестве взяток. Так, к примеру, известный церковный деятель Иосиф Волоцкий, желая помириться с тверским князем Феодором Борисовичем, «начат князя мздою утешати, и посла к нему иконы Рублева письма и Дионисиева». И за самую знаменитую икону «Рублева письма» мы должны сказать спасибо нашему герою – именно для Троицкого собора Троицко-Сергиевой Лавры, построенного в основном «иждивением» Юрия Галицкого, Рублев и написал свою великую «Троицу».
В общем, жил себе второй сын Дмитрия Донского вполне достойно – воевал, строил, хозяйствовал. Всю жизнь честно подчинялся старшему брату, по его приказу ходил на войну, на власть никак не посягал. И лишь в одном вопросе братья не могли примириться.
Поводом для распрей было, конечно же, великое княжение…
_______________________
[1] Пусть вас не смущает название. Изрядная часть этого волжского племени когда-то ушла искать лучшую жизнь в направлении Балкан и там растворилась среди южных славян. В наследство они оставили свое название будущей главной советской «незагранице» – Болгарии. А оставшиеся дома так и проживали на родной Волге. Дабы отличать их от балканских родственников, им немного поправили название – на «булгары».
Глава четвертая – об отцовской любви
Дело в том, что появление Васеньки спутало все карты. Все уже практически смирились с тем, что великий князь не оставит наследника и Юрий, безусловно, в мечтах уже примерял бы корону, если бы она в московском княжестве была.
После появления последыша все изменилось. Великого князя, похоже, сильно пригнула вечная проблема родителей поздних детей – как успеть до смерти вырастить, «поднять» сына. И, надо сказать, Василий-старший сделал все возможное для ее решения. Любящий отец, конечно же, очень хотел обеспечить будущее своего «младшенького» и оставить великое княжение ему. Кое-какие козыри у него были. Обстоятельства сложились так, что уже много лет власть в княжестве московском передавалась не от брата к брату, а от отца к сыну. Это была, конечно, чистая случайность, цепь удачных совпадений, но для престарелого отца – очень удобная. «Де факто» уже несколько поколений в княжестве действовал совсем другой порядок наследования. Но, как мы помним, «де юре» никто не отменял, а по древнему закону шансов у наследника практически не было. Дмитрию Донскому везло на сыновей, и между маленьким Васей и великим княжением стояли еще четверо – младшие братья его отца Юрий, Андрей, Петр и Константин.
Вот их-то и принялся убеждать Василий Дмитриевич. Двое средних – Андрей и Петр, поступиться своим первородством согласились практически сразу. До нас дошли договорные грамоты Василия Димитриевича со всеми четырьмя братьями. В «договорах» с Андреем и Петром все прописано четко – князья обязываются в случае смерти Василия блюсти великое княжение «и под сыном его». В договоре с Юрием этого пункта нет.
Кроме того, изрядная неприятность настигла Василия там, где он ее и не ждал – заартачился и самый младший из братьев – Константин. И это несмотря на то, что младший сын Донского находился в самом невыгодном положении, и больше всех зависел от старшего брата. Дело в том, что он родился всего за четыре дня до смерти отца, и поэтому остался «бесприданником» – в духовной Донского, написанной еще до рождения Константина, ему, естественно, не было завещано ничего. Удел ему от щедрот выдал старший брат: Василий Димитриевич в первом своем завещании говорит: «А брата своего и сына, князя Константина, благословляю, даю ему в удел Тошню да Устюжну по душевной грамоте отца нашего, великого князя».
Однако признать права племянника облагодетельствованный братец неожиданно отказался, заявив: «Этого от начала никогда не бывало!» Гнев великого князя был страшен. Нет, ну в самом деле?! Я его кормлю, пою и воспитываю, а он тут становится в третью позицию… В общем, удел у возомнившего о себе братца был немедленно отобран обратно, и оставшийся без кола и двора Константин подался в дежурное убежище всех недовольных князей – в Великий Новгород. Правда, гордости у младшенького хватило ненадолго – оставшись без средств к существованию и помыкавшись на чужбине, Константин в конечном итоге уступил старшему брату, бумагу подписал и возвратился в Московское княжество, в свой маленький удел.
Но оставалось самое сложное – Юрий. Тот поступаться своими правами не хотел, а экономических рычагов давления на этого крепкого хозяина у Василия почитай что и не было. В итоге несчастному отцу оставалось надеяться на всегдашнее «может, все как-нибудь само собой рассосется». Завещание он все-таки оставил в пользу сына. В нем он по полному праву оставлял сыну свои приобретения: присоединенные им к княжеству Новгород Нижний и Муром, а о великом княжении писал даже с некоторым бессилием: «А даст бог сыну моему великое княженье…». Очень примечательно, что в духовной князь просит позаботиться о малолетнем Василии Васильевиче своего тестя, братьев Андрея, Петра и Константина, и даже троюродных братьев, сыновей князя Владимира Андреевича; но ни разу, ни в одном из вариантов завещания не единым словом не упоминается Юрий Дмитриевич. Комментарии, наверное, излишни – какие еще доказательства требуются в пользу того, что второй сын Донского был упрям и на своем стоял твердо.
Увы, «дожать» ситуацию Василий Васильевич так и не успел. В ночь с 27 на 28 февраля 1425 года на пятьдесят четвертом году жизни скончался великий князь московский Василий Первый. Через десять дней у его единственного сына, Василия Васильевича, был день рождения. Ему исполнилось десять лет.
Итак, ситуация проста. Претендентов двое – популярный в народе князь, которому только что перевалило за пятьдесят, и десятилетний пацан.
На кону – великое княжество Московское.
Глава пятая, рассказывающая о молодости древней столицы
Однако давно уже пора подробнее разглядеть наш пресловутый приз – то самое Великое княжество Московское, которое и оказалось на кону в неизбежном споре между дядей и племянником.
Словосочетание «Великое княжество Московское» я предлагаю разбить на две части и поговорить сначала о великом княжестве как таковом, а уже потом – конкретно о московском княжестве.
Прежде всего – не стоит воспринимать тогдашнее великое княжество, как государство в нашем теперешнем понимании. Ничем подобным там и не пахло – никакой тебе «властной вертикали», ни даже «федеративного договора». С точки зрения властных отношений вся территория северо-восточных русских княжеств представляла собой огромное лоскутное одеяло. В роли лоскутков выступали так называемые уделы, от довольно обширных до совсем крошечных – пара нищих деревенек в два крестьянских двора. Но каждый хозяин своего наследственного владения (вотчины, по-другому – «отчины», то есть «от отца полученное»), кем бы он ни был, в своих землях являлся полноправным хозяином и плевать хотел на любого князя. Это его земля, только он на ней хозяин, и никто, кроме него, не вправе судить-рядить, карать и миловать ее жителей. С «вышестоящим начальством» его связывали чисто деловые отношения.
Честно говоря, аналогия «великому княжеству», показавшаяся мне наиболее подходящей, лежит вовсе не в сфере государственного права. Помните, когда мы рассуждали о тогдашних принципах наследования, ключевым понятием для нас было «семья». По-итальянски – «мафия».
Именно систему «организованных преступных группировок» русские княжества и напоминали больше всего. Со всеми атрибутами – рыхлой структурой, постоянно заключаемыми, тут же пересматриваемыми и часто разрываемыми личными договоренностями, постоянными внутренними и внешними конфликтами, отпадением и приращением составляющих. Систему, где каждая мафия-семья контролировала ту или иную территорию, те или иные структуры, периодически устраивая внутренний или внешний передел. Как мы помним, каждый член великокняжеской семьи после смерти отца получал удел: те или иные города и села. Цель этого надела была самая благая – что бы сын с голоду не умер. Сходство с мафией усиливало и то обстоятельство, что отношения удельных князей с подданными вполне укладывались в традиционную схему «крышевания».
Именно так. Не стоит думать, будто знаменитые рэкетиры 90-х годов придумали что-то новое. В любые смутные времена (а те времена были куда более лихими, чем пережитые нами на излете XX века) трудолюбивые, но мирные граждане непременно образуют устойчивый симбиоз с ленивым, но дерзким и воинственным асоциальным элементом, и основные принципы этого взаимодополняющего союза не меняются никогда.
Каждое село или город во владениях князя периодически отчисляло ему оговоренную сумму, он же в ответ гарантировал им:
1. Всяческую защиту от многочисленных любителей разжиться чужим добром на дармовщинку.
2. Разбор и справедливое разрешение возникающих между «налогоплательщиками» недоразумений.
3. Партнерскую помощь на случай форс-мажорных обстоятельств: в случае неурожая или мора князь вполне мог поделиться с «крышуемыми» подданными собственными запасами.
Интерес, как мы видим, обоюдный – «подконтрольные структуры» получали более-менее стабильную жизнь, а князь – источник дохода.
Что же, кроме родственных отношений, объединяло между собой самих удельных князей, и какова была роль великого князя, из-за которой и разгорелся весь сыр-бор?
Да то же самое, только в большем масштабе. Прежде всего – забота о собственной безопасности – уделы у князей часто были небольшими, а врагов хватало. Даже если не брать в расчет иностранные государства, тех же самых русских княжеств и окромя московского было преизрядно, и ни одно из них не отказалось бы поставить под свой контроль еще одно доходное предприятие. Значит, надо было объединять усилия. Поэтому братья обычно заключали военный союз и договаривались о совместном ведении боевых действий: «Сяду я на конь (пойду в поход) сам с своею братьею, то и тебе, брат, послать ко мне на помощь двух своих сыновей да двух племянников, оставив у себя одного сына; если же пойдут на нас или литва, или ляхи, или немцы, то тебе послать детей своих и племянников на помощь; корм они возьмут, но иным ничем корыстоваться не должны. Также если пойдут на вас татары, литва или немцы, то мне идти самому к вам на помощь с братьями, а нужно будет мне которого брата оставить у себя на сторожу, и я оставлю[1]«.
Кстати, как вы понимаете, для того, что бы высылать войско, надо было его иметь. Но воинам надо платить, а с деньгами в нищей тогда Руси традиционно было неважно. Приходилось жертвовать частью своих владений. Со своей военной дружиной – боярами, удельный князь обычно расплачивался теми же самыми селами, на доход с которых они и жили. Боярские вотчины были удельными княжествами в миниатюре – практически такие же суверенные владения, наследуемые от отца к сыну. И даже если боярин переходил на службу к другому князю (а он имел на это полное право при соблюдении определенных условий), вотчина обычно оставалась за ним. Теперь вы можете представить все масштабы «лоскутности» этого одеяла.
Впрочем, князей и бояр связывали не только «служебные», но и самые прозаические финансовые отношения. Дело в том, что великое княжество отнюдь не было вершиной этой «криминальной пирамиды». Суверенных русских княжеств тогда просто не существовало в природе – все они входили в состав того или иного государства. Северо-восточные княжества, в том числе и Московское, были частью государства, ныне известного как Золотая орда. И, как прилежные подданные, время от времени они были обязаны перечислять «в центр» изрядную сумму в виде налогов. Налог этот назывался на Руси «ордынским выходом».