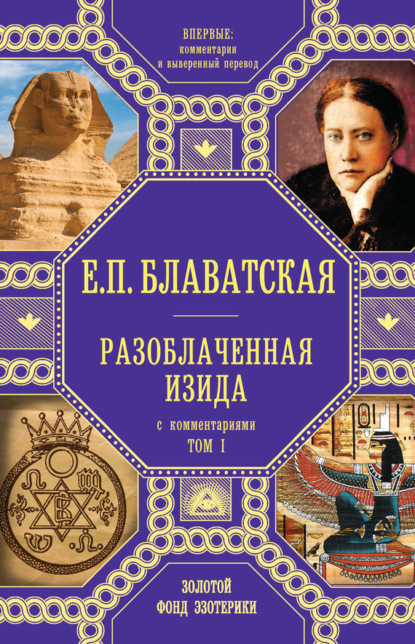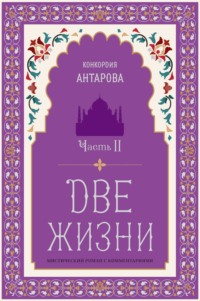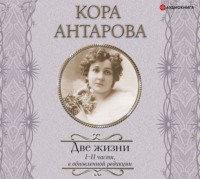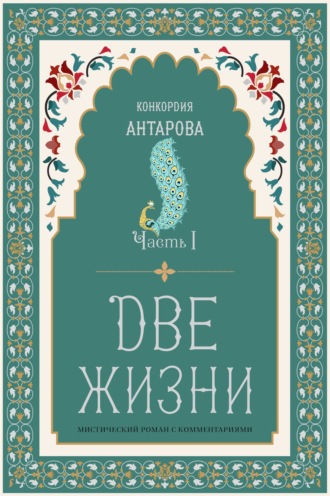
Полная версия
Две жизни. Часть 1
Я вздрогнул, – от неожиданности не понял даже вопроса, – и увидел перед собою высоченную фигуру Али-старшего, который, смеясь, протягивал мне руку. Машинально я взял эту руку и почувствовал какое-то облегчение; даже из груди у меня вырвался вздох, и по руке побежала теплая струя энергии.
Я молчал. Мне казалось, что еще никогда не держал я в своей руке такой ладони. С усилием оторвались мои глаза от прожигающих глаз Али Мохаммеда, и я посмотрел на его руки.
Они были белы и нежны, точно к ним не мог пристать загар. Длинные, тонкие пальцы кончались овальными, выпуклыми, розовыми ногтями. Вся рука, узкая и тонкая, артистически прекрасная, все же говорила об огромной физической силе. Казалось, глаза, мечущие искры железной воли, находились в полной гармонии с этими руками. Можно было легко представить, что в любую минуту, стоит Али Мохаммеду сбросить мягкую белую одежду, взять меч в руку, – и увидишь воина, разящего насмерть.
Я забыл, где мы, зачем мы стоим посреди улицы, и не могу сейчас сказать, как долго держал Али мою руку. Я точно стоя заснул.
– Ну, пойдем же домой, Левушка. Отчего ты не благодаришь Али Мохаммеда за приглашение? – услышал я голос брата.
Я опять не понял, о каком приглашении говорит мне брат, и пролепетал какое-то невнятное прощальное приветствие улыбающемуся мне высокому и стройному Али.
Брат взял меня под руку, я невольно двинулся в ногу с ним. Робко взглянув на него, я снова увидел родное, близкое, с детства знакомое лицо любимого брата Николая, а не того чужого человека под деревом, вид которого так меня поразил и глубоко расстроил.
Сложившаяся с детства привычка видеть опору, помощь и покровительство в брате, привычка, создавшаяся в те дни, когда я рос только в его обществе, обращаться со всеми жалобами, огорчениями и недоразумениями к брату-отцу, как-то вдруг выскочила из глубины моего сердца, и я сказал жалобным тоном:
– Как мне хочется спать; я так устал, точно прошел верст двадцать!
– Очень хорошо, сейчас пообедаем и можешь лечь часа на два. А потом пойдем в гости к Али Мохаммеду. Он здесь почти единственный ведет европейский образ жизни. Дом его прекрасно и с большим вкусом обставлен. Очень элегантная смесь Азии и Европы. Женщины его семьи образованны и ходят дома без паранджи, а это целая революция для здешних мест. Много раз ему угрожали всяческими гонениями муллы и другие высокопоставленные религиозные фанатики за нарушение местных обычаев. Но он все так же ведет свою линию. Все до последнего слуги в его доме грамотны. Слугам предоставляются часы полного отдыха и свободы среди дня. Это здесь тоже революция. И я слышал, что против него теперь собираются устроить религиозный поход. А в здешних диких краях это вещь страшная.
Разговаривая, мы пришли к себе, умылись в ванной комнате, устроенной прямо в саду из циновок и брезента, и уселись у давно накрытого стола обедать.
Хороший освежающий душ и вкусный обед вернули мне бодрость.
Брат весело смеялся, журил меня за рассеянность и рассказывал всевозможные комические сценки, которые ему приходилось наблюдать в здешнем быту; восхищался сметливостью русского солдата и его остроумием. Редко когда восточная хитрость торжествовала над русской проницательностью, обманувший русского солдата восточный торговец зачастую расплачивался за свою нечестность. Солдаты придумывали такие трюки, чтобы наказать обманщика, такой смешной фарс разыгрывался над торговцем, совершенно уверенным в своей безнаказанности, что любой режиссер мог бы позавидовать их фантазии.
Надо сказать, что злых шуток солдаты никогда не проделывали, но комические положения, в которые попадал обманщик, надолго отучали его от привычки к надувательству.
Так незаметно мы кончили обедать, и желание поспать у меня улетучилось. Мне вздумалось попросить брата примерить подаренный мной ему халат.
Сбросив китель, брат надел халат. Глубокий фиолетовый тон как нельзя больше шел к его золотистым волосам и загорелому лицу. Я им невольно залюбовался. Где-то в глубине мелькнула завистливая мысль – «а мне никогда красавцем не бывать».
– Как удачно ты это купил, – сказал брат. – Халатов у меня, правда, много, но их я уже надевал, этот же мне нравится особенно. Ни на ком такого не видел. Непременно надену его вечером, когда пойдем в гости к соседу. Кстати, заглянем-ка в «туалетную», как важно зовет денщик гардеробную, и выберем для тебя халат.
– Как, – воскликнул я с удивлением, – разве мы пойдем туда ряжеными?
– Ну зачем же «ряжеными»? Мы просто оденемся так, как будут одеты все, чтобы не бросаться в глаза. Сегодня у Али будут не только друзья, но и немалое количество врагов. Не станем же мы дразнить их европейской одеждой.
Однако когда брат открыл большой шкаф, в нем оказалось не восемь, а десятка два всевозможных халатов из разных материй. Я даже вскрикнул от удивления.
– Тебя поражает это количество? Но ведь здесь носят сразу семь халатов, начиная с ситцевого и кончая шелковым. Кто побогаче, носят три-четыре шелковых; кто победнее, только ситцевые, но непременно надевают сразу несколько друг на друга.
– Мой Бог, – сказал я, – да ведь в этакую жарищу, напялив несколько халатов, можно почувствовать себя в жерле Везувия.
– Это только так кажется. Тонкая материя не тяжела, а надетая одна на другую не дает возможности солнечным лучам сжигать тело. Вот попробуй облачиться в эти два халата. Ты увидишь, что они невесомы и даже холодят, – сказал брат, протягивая мне два белых, очень тонких шелковых халата. – Очень уж истово, как полагается по здешней традиции, мы одеваться не будем. Но по четыре халата придется надеть. Я очень тебя прошу, надень и походи; попривыкни. А то, пожалуй, вечером, по своей рассеянности, ты действительно будешь казаться «ряженым» и оконфузишь нас обоих, – продолжал брат, видя, что я все еще держу в нерешительности поданные мне халаты в руках.
Не особенно горя желанием облачаться в восточный наряд, но не желая огорчить любимого брата, я быстро разделся и стал натягивать халаты.
– Но они узкие, какие же это халаты? Это какие-то нелепые перчатки, – закричал я, начиная раздражаться.
– Их надо застегнуть, вот здесь крючок, а здесь пуговица, – сказал спокойно брат и легкими, гибкими пальцами сам застегнул на мне халаты.
– Теперь, Левушка, успокойся и надень этот зеленый халат; он пошире, его тоже надо застегнуть. В нем есть и карманы. А сверху надень еще вот этот широкий, серый с красными разводами, – и опять очень ловко он помог мне одеться.
– Да, и обувь еще, – сказал он. – У Али принят полуазиатский туалет, так что и мы с тобой можем явиться в европейских туфлях, но сверх них надо надеть кожаные калоши, которые оставляются у дверей. Иначе придется идти в одних чулках. Ни в мечеть, ни в дом не входят в уличной обуви.
Мы выбрали калоши мне по ноге, их тоже оказалось у брата несколько пар.
– Пройдем в спальню, там выберем тебе чалму.
– Как чалму? На кого же я буду похож? Я и так-то красой не блещу! Помилуй, Николушка, иди уж лучше один, – взмолился я.
Брат расхохотался:
– Да ведь ты же не собираешься покорять сердце прелестной племянницы Али? А из твоих приятельниц или приятелей никто тебя не увидит. Чего же тебе огорчаться, если восточный туалет тебя не украсит? Впрочем, – прибавил он, подумав, – если хочешь, я смогу сделать тебя неузнаваемым. Я тебе приклею длинную седую бороду, и ты можешь сойти за важного купца.
– Еще того чище! – воскликнул я. – Да этак, пожалуй, мне придется вспомнить, что меня считают неплохим актером-любителем!
– Если ты сумеешь сегодня сыграть роль хромого старика, ты, пожалуй, увидишь очень интересные и не совсем обычные вещи. Но вот жаль, у меня нет второй белой чалмы, чтобы сделать тебе белый тюрбан.
В эту минуту раздался легкий стук в дверь. Брат подошел к двери, и я услышал его приятно удивленное восклицание:
– Это вы, Махмуд! Войдите. Я как раз занят нарядом брата к вечеру. Хочу сотворить из него старого купца с седой бородой.
– А я принес белую чалму и камень. Дядя просит вашего брата принять их как подарок от Наль в день ее совершеннолетия, – и он подал мне сверток и футляр.
– А это вам от Наль, – и он подал брату два свертка и два футляра.
– Не забудьте, что вам нужно хромать на левую ногу и крепко опираться на палку правой рукой. А левой почаще гладить бороду, если вы хотите сыграть роль старого купца. У меня есть такой знакомый в Б., очень важный человек, – говорил мне Али-молодой. Он улыбался, алые прелестные губы обнажали чудесные зубы, а его фиолетовые глаза пристально – не по летам серьезно – смотрели на меня.
Кивнув нам головой и приложив, по восточному обычаю, руку ко лбу и сердцу, Али так же бесшумно скрылся, как и вошел.
Я развернул свой сверток, и оттуда выпал отрез тончайшей белой материи. Любопытство мое было так сильно, что, даже не подобрав упавшего шелка, я раскрыл футляр, и у меня вырвалось восклицание восторга и удивления.
Прекрасной работы брошь с крупным выпуклым рубином и несколькими бриллиантами, перевитая змеей из темного золота и жемчуга, сверкала в полутемной комнате, и я не мог оторвать от нее глаз.
Брат поднял оброненную мною ткань и, рассматривая брошь вместе со мною, сказал:
– Али-старший посылает тебе от имени племянницы белую чалму – эмблему силы; и красный рубин – эмблему любви. Этим он причисляет тебя к своим друзьям.
– А что же он послал тебе? – полюбопытствовал я.
Брат развернул сверток побольше, и в нем оказался тончайший белый халат из никогда невиданной мною материи, похожей на белую замшу, но по тонкости равной папиросной бумаге. К нему была приложена записка на арабском языке, которую брат спрятал, не читая, в карман. Во втором свертке была такая же чалма, как моя, только в самом ее начале синим шелком, арабскими буквами, была выткана во всю ширину чалмы – а она была чрезвычайно широка – какая-то фраза. Я мало обратил внимания и на записку, и на арабскую фразу; мне хотелось скорее увидеть содержимое футляров брата. «Если мне он шлет привет силы и любви, то что же он посылает Николушке?» – думал я.
Наконец брат свернул осторожно свою чалму, спрятал ее в ящик бюро и открыл футляр побольше. Оттуда сверкнули крупные бриллианты в форме треугольника, внутри которого выпуклый изумруд овальной формы сиял голубовато-зеленым светом. В маленьком футляре оказался перстень с таким же овальным выпуклым изумрудом в простой платиновой оправе.
– Вот так совершеннолетие Наль! – почти закричал я. – Если всем своим друзьям Али рассылает в этот день такие подарки, то уж наверное половину своего виноградника, который так расхваливал мне купец в торговых рядах, он раздаст сегодня. И зачем мужчинам эти брошки? Это чудесные украшения для женщин, но ведь Али знает, что мы с тобой не женаты.
– Этими брошками-булавками мы заколем наши чалмы над самым лбом. Получить такую булавку в подарок – огромная честь; и ее далеко не всем оказывают на Востоке, – ответил брат. – Али живет здесь лет десять; сам он родом откуда-то из глубин Гималаев, и все восточные обычаи гостеприимства и уважения к дружбе чтятся в его доме.
Время быстро летело. Сумерки уже сгущались, и вскоре должна была наступить мгновенно опускающаяся здесь ночь.
– Пора начинать твой грим, а то мы можем оказаться невежливыми и опоздать.
С этими словами брат выдвинул ящик бюро, и… я еще раз обмер от удивления.
– Ну и ну, – сказал я. – Почему же ты ни разу не писал мне, что играешь в любительских спектаклях?
Весь ящик был полон всяческого грима, бород, усов и даже париков.
– Нельзя же все написать, а еще менее возможно все рассказать в несколько дней, – усмехаясь, ответил брат.
Он посадил меня в кресло и, как заправский гример, приклеил мне бороду и усы, протерев предварительно все лицо какой-то бесцветной жидкостью с очень приятным запахом, освежившей мое горевшее от непривычного солнца лицо.
Коричневым карандашом он провел слегка под моими глазами два-три легких штриха. Какой-то жидкостью перламутрового цвета прикоснулся к моим густым темным бровям. Смазал каким-то кремом губы и сказал:
– А теперь чуть-чуть подравняю твои кудри, чтобы черные волосы не выбились из-под чалмы. Садись сюда. – И с этими словами он усадил меня на табурет.
Мне, признаться, жаль было моих вьющихся волос, которые я справедливо считал единственным своим козырем. Но в жару так приятно иметь коротко остриженную голову, что я сам попросил остричь меня под машинку.
Вскоре голова была острижена, и я хотел встать с табурета.
– Нет, нет, сиди, Левушка. Я сейчас обовью твою голову чалмой.
Я остался сидеть, брат развернул чалму, оказавшуюся длиннее, чем я предполагал, беспощадно стал скручивать ее жгутом и довольно быстро, ловко, крепко, но без малейшего давления где-либо замотал всю мою голову.
– Голова готова; теперь ноги. Надевай эти длинные чулки и туфли, – сказал он, достав мне из картона в углу белые чулки и довольно простоватые на вид туфли.
Я все это надел и встал на ноги; но сразу почувствовал какую-то неловкость в левой туфле. Невольно я как-то припал на левую ногу, а брат услужливо сунул мне в правую руку палку.
– Теперь ты именно тот немой, глухой и хромой старик, которого тебе надо изобразить, – засмеялся брат.
Я разозлился. От непривычной бороды мне было жарко; жидкость, которой было смазано мое лицо, – вначале такая приятная, – сейчас отвратительно стягивала кожу; ноге было неудобно и, вдобавок ко всему, я еще, оказывается, должен считаться немым и глухим.
Со свойственной мне раздражительностью я хотел раскричаться и заявить, что никуда не пойду; и уже приготовился было сорвать бороду и чалму, как дверь беззвучно отворилась, и в ней появилась высоченная фигура Али-старшего.
Взгляд его агатовых глаз положительно парализовал меня. Чалма так плотно прикрывала мне уши, что я ровно ничего не слышал, о чем говорил он с братом.
На нем был надет почти черный – так густ был синий цвет – халат; а под ним сверкал другой, ярко-малиновый плотно прилегавший к телу. На голове белая чалма и большая бриллиантовая брошь, изображавшая павлина с распущенным хвостом…
Приветливо и ласково улыбаясь, он подошел ко мне с протянутой рукой. Когда я подал ему руку, он пожал ее; и опять по всему моему телу пробежал ток теплоты, и на этот раз не сонной лени, а какой-то радости.
Али снял со своего пальца кольцо с красным камнем, на котором был вырезан лев в обрамлении каких-то иероглифов. Наклонившись к самому моему уху, он сказал:
– Это кольцо откроет вам сегодня все двери моего дома, куда бы вы ни захотели пройти. И оно же поможет вам, если когда-нибудь в жизни вы будете ранены и рана будет кровоточить.
Увлекшись кольцом, я не заметил, как рядом с Али выросла другая стройная высокая фигура. Я даже не сразу понял, что это именно брат и стоит возле Али в подаренном мной сегодня сине-фиолетовом халате. Я видел стройного восточного человека с сильно загорелым лицом, со светлой бородой и усами, на белой чалме которого сиял треугольник из бриллиантов и изумруда. Мой брат был высок ростом. Но рядом с высоченным Али он казался среднего роста.
– Посмотри на себя в зеркало, Левушка. Я уверен, что себя ты не узнаешь еще в большей мере, чем не узнал меня, – со смехом обратился ко мне брат, очевидно заметив мое полное недоумение.
Я двинулся к зеркалу, совершенно естественно хромая в своей неудобной левой туфле.
– Вы отличный артист, – едва улыбнувшись, сказал Али. Но вся его фигура выражала такой заразительный юмор, что я расхохотался.
Смеясь, я вдруг увидел в зеркале очень смуглого, чуть-что не черного хромающего старика. Я огляделся по сторонам и вдруг услышал такой взрыв веселого, раскатистого хохота Али и брата, что невольно обернулся и с удивлением посмотрел на них. Хохот их еще больше усилился; между тем я случайно еще раз взглянул в зеркало и снова увидел в нем смуглого араба-старика. С трудом я осознал, что этот черный араб – я сам.
Я поднес руку к глазам, убедился, что не сплю, и спросил брата, почему же я такой черный. Как это могло случиться? На мой вопрос он мне ответил:
– Это, Левушка, жидкость сделала свое дело. Но не тревожься. Завтра же ты будешь снова бел, еще белее, чем всегда. Другая, такая же приятная жидкость смоет всю черноту с твоего лица.
– А теперь не забудьте, друг, что на весь этот вечер вы хромы, немы и глухи, – сказал, смеясь, Али. С этими словами он поправил на мне чалму, нахлобучив ее на мои уши так, что теперь я уж и в самом деле не мог ничего слышать, но понял, что он предлагает мне взять его руку и идти с ним. Я посмотрел на брата, который успел привести комнату в полный порядок, он кивнул мне, и мы вышли на улицу.
Глава 2
У Али
На улице Али шел впереди, я посередине, и брат мой сзади.
Мое состояние стало каким-то отупелым от удушливой жары, непривычной одежды, бороды, которую я все трогал, проверяя, крепко ли она сидит на месте, неудобной левой туфли и тяжелой палки. В голове было пусто, говорить совсем не хотелось, и я был доволен, что по роли этого вечера я нем и глух. Языка я все равно не понимаю, и теперь мне ничто не будет мешать наблюдать новую незнакомую жизнь. Мы перешли улицу, миновали ворота, по обыкновению крепко запертые, завернули за угол и через железную калитку, которую открыл и закрыл сам Али, вошли в сад. Я был поражен обилием прекрасных цветов, издававших сильный, но не одуряющий аромат.
По довольно широкой аллее мы направились в глубину сада и подошли к освещенному дому. Окна были открыты настежь, и сквозь них был виден большой длинный зал, в котором были расставлены небольшие, низкие круглые столики, придвинутые к низким же широким диванам, тянувшимся по обеим сторонам зала. Подле каждого столика стояло еще по два низких широких пуфа, как бы из двух сложенных крест-накрест огромных подушек. На каждом пуфе – при желании – можно было усесться по-восточному, поджав под себя ноги.
Весь дом освещался электричеством, о котором тогда едва знали и в столицах. Али был активным его пропагандистом, выписал машину из Англии и старался присоединить к своей, довольно мощной, сети, своих друзей. Но даже самые близкие его друзья не решались на такое новшество, только один мой брат да два доктора с радостью осветили свои дома электричеством.
Пока мы проходили по аллее, навстречу нам быстро вышел Али-молодой, а за ним Наль в роскошном розовом халате, который я тотчас узнал, с откинутым назад богатейшим покрывалом. Моему взору предстал не виданный мною прежде женский головной убор, затканный жемчугом и камнями; перевитые жемчугом темные косы лежали на плечах и спускались почти до полу; улыбающиеся алые губы быстро говорили что-то Али… Я хотел сдвинуть чалму, чтобы услышать голос девушки, но быстрый взгляд Али как бы напомнил мне: «Вы глухи и немы, погладьте бороду».
Я злился, но старался ничем не выказать своего раздражения и медленно стал гладить бороду, радуясь, что я хотя бы не слеп, по виду стар и могу рассматривать красавицу, любуясь ею безо всякой помехи. Девушка не обращала на меня никакого внимания. Но не требовалось быть тонким физиономистом, чтобы понять, как занято ее внимание моим братом.
Теперь мы стояли на большой террасе, со всех сторон обвитой незнакомой мне цветущей зеленью. Благодаря яркой люстре было светло как днем, так, что даже рисунок драгоценного ковра, в котором утопали ноги, был ясно виден.
Девушка?! Среднего роста, тоненькая, гибкая! Крошечные белые ручки с тонкими длинными пальцами держали две большие красные розы, которые она часто нюхала. Но мне казалось, что она старается таким образом скрыть свое замешательство. Ее глаза, громадные, миндалевидные зеленые глаза, не похожи были на глаза земного существа. Можно было представить, что где-то, у каких-нибудь высших существ, у ангелов или гениев, могут быть такие глаза. Но с представлением об обыкновенной женщине не вязались ни эти глаза, ни их выражение.
Али предложил мне сесть на мягкий диван, а девушка и Али-молодой сели напротив нас на большом мягком пуфе. Я все смотрел, не отрываясь, на лицо Наль. И не один я смотрел на это лицо, меняющее свое выражение подобно волне под напором ветра. Глаза всех трех мужчин были устремлены на нее. И как разно было их выражение!
Молодой Али сверкал своими фиолетовыми глазами, и в них светилась преданность до обожания. Я подумал, что умереть за нее, без колебаний, он готов каждую минуту. Оба были очень похожи. Тот же тонко вырезанный нос, чуть с горбинкой, тот же алый рот и продолговатый овал лица. Но Али – жгучий брюнет, и чувствовалось, что в нем темперамент тигра, что мысль его может быть едкой, а слово и рука ранящими. А в лице Наль все было так мягко и гармонично; все дышало добротой и чистотой, и казалось, что жизнь простого серого дня, с его унынием и скорбями, не для нее. Она не может сказать ни единого горького слова; не может причинить боль; может быть только миром, утешением и радостью тем, кто будет счастлив ее встретить.
Дядя смотрел на нее своими пронзающими агатовыми глазами пристально и с такой добротой, какой я никак не мог в нем предполагать. Глаза его казались бездонными, и из них лились на Наль потоки ласки. Но мне все чудилось, что за этими потоками любви был глубоко укрыт ураган беспокойства и неуверенности в счастливой судьбе девушки.
Последним я стал наблюдать брата.
Он тоже пристально смотрел на Наль. Брови его снова, – как под деревом, – были слиты в одну прямую линию; глаза от расширенных зрачков стали совсем темными. Весь он держался прямо. Казалось, все его чувства и мысли были натянуты, как тетива лука. Огромная воля, из-под власти которой он не мог позволить непроизвольно вырваться ни одному слову, ни единому движению, точно панцирь облекала его. И я почти физически ощущал железное кольцо этой воли.
Девушка чаще всего взглядывала на него. Казалось, в ее представлении нет места мысли, что она женщина, что вокруг нее сидят мужчины. Она, точно ребенок, выражала все свои чувства прямо, легко и радостно. Несколько раз я уловил взгляд обожания, который она посылала моему брату; но это было опять-таки обожание ребенка, в котором чистая любовь лишена малейших женских чувств.
Я понял вдруг огромную драму этих двух сердец, разделенных предрассудками воспитания, религии, обычаев…
Али-старший взглянул на меня, и в его, таких добрых сейчас, глазах я увидел мудрость старца, точно он хотел мне сказать: «Видишь, друг, как прекрасна жизнь! Как легко должны бы жить люди, любя друг друга; и как горестно разделяют их предрассудки. И во что выливается религия, зовя к Богу, а на деле разрывая скорбью, мукой и даже смертью жизни любящих людей».
В моем сердце раскрылось вдруг понимание свободы и независимости человека. Мне стало жаль, так глубоко жаль брата и Наль! Я осознал, как безнадежна была бы их борьба за любовь! И оценил волю брата, не дававшего пробиться ни единому живому слову, но державшемуся в рамках почтительного рыцарского воспитания в своем разговоре с Наль.
Вначале такая детски веселая, девушка становилась заметно грустней, и ее глаза все чаще смотрели на дядю с мольбой и недоумением. Али-старший взял ее ручку в свою длинную, тонкую ладонь и что-то спросил, чего я расслышать не смог. Но из жеста девушки, которым она быстро вырвала свою руку, поднесла розы к зардевшемуся лицу, я понял, что вопрос был о цветке. Али снова ей что-то сказал, и девушка, вся пунцовая, сияя своими огромными зелеными глазами, поднесла одну из роз к губам и сердцу и протянула ее моему брату.
– Возьми, – сказал Али так четко, что я все расслышал. – В день совершеннолетия женщина нашей страны дарит цветок самому близкому и дорогому другу. Брат взял цветок и пожал протянувшую его ручку.
Али-молодой вскочил, как тигр, со своего места. Из глаз его буквально посыпались искры. Казалось, что он тут же бросится на брата и задушит его. Али-старший только взглянул на него и провел указательным пальцем сверху вниз – и Али-молодой сел со вздохом на прежнее место, словно вконец обессилев.
Девушка побледнела. Брови ее нахмурились, и все лицо отразило душевную муку, почти физическую боль. Ее глаза скорбно смотрели то в глаза дяди, то на опустившего голову двоюродного брата.
Али Мохаммед снова взял ее руку, ласково погладил по голове, потом взял руку моего брата, соединил их вместе и сказал:
– Сегодня тебе шестнадцать лет. По восточным понятиям ты уже зрелая женщина. По европейским – ты дитя. По моим же понятиям ты уже взрослый человек и должна вступить в самостоятельную жизнь. Не бывать дикому сговору, который так глупо затеяла твоя тетка. Ты хорошо образованна. Ты поедешь в Париж, там будешь учиться, а когда окончишь медицинский факультет, поедешь со мной в Индию, в мое поместье. Там, работая врачом, ты будешь служить людям лучше, чем в качестве жены здешнего фанатика. Мой и твой друг, капитан Т., не откажет нам в своей рыцарской помощи и поможет тебе бежать отсюда. Обменяйся с ним кольцами, как христиане меняются крестами.