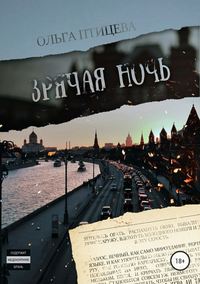Полная версия
Тожесть. Сборник рассказов

Бабариха
Бабарихой прозвала ее Лерка. Как-то легко так вышло – ба-ба-Ри-та-Ба-ба-ри-ха. Сама Лерка от горшка два вершка, зато стихами шпарила, только так. По вечерам вытягивалась в струнку и начинала с самой первой строчки:
Три девицы под окном,
Пряли поздно вечерком.
А когда доходила до главного злодеяния, то звонкий голосок ее взмывал к потолку хрущевки, задевал люстру, покачивал пыльный хрусталь.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Извести ее хотят,
Делала трагическую паузу и начинала хохотать.
– Это про тебя! Про тебя!
В ответ Бабариха ворчала недовольно, мол, дурь это все, но в груди у нее становилось тепло-тепло, и дрожало что-то, и даже хотелось плакать.
Леру к ней привезли на лето. Тамарка передала, как эстафетную палочку.
– Мне в командировку. – И отвела глаза. – Я денег оставлю.
Бабариха сразу поняла, какая там командировка. Видать, про ребенка хахалю не сказала, вот и прячет. Но деньги взяла, и Лерку тоже.
Жили они хорошо, внучка оказалась бойкой. Как побежит, только пятки сверкают. Друзей нашла тут же, охламонов всяких, носилась с ними с утра до вечера, домой забегала, жадно пила из чайника, и обратно.
– Мы шалаш строим! – кричала в дверях.
Или.
– Кошка котят родила!
Или.
– Мяч продырявился, надо клеить!
Бабариха ее не слушала. Терла клеенку на кухонном колченогом столе, до скрипа терла, чтобы ни пылинки, ни жиринки не осталось. Но то и дело поглядывала во двор, где там попрыгунья ее, где стрекоза? А вечером, когда спадала жара, а в кустах поднимался стрекот цикад, они садились рядом и ели черешню, пока Лера не засыпала, привалившись к бабкиному боку. Бабариха ждала этого целый день, замирала, слушала, как дышит рядом живое и теплое, и сама становилась такой – живой и теплой.
Тамарка вернулась в конце августа. Загоревшая, худая, с тревожным блеском в глазах. Наскоро обняла дочку, оглядела дом:
–Ну и чистота у тебя, мать, нежилая какая-то… Как в морге. – Повернулась к Лере. – Собирайся давай, машина ждет.
Лерка пискнула, схватила Бабариху за руку, замотала головой – тонкие косички с цветными резинками на концах тут же растрепались.
– Не хочу…
– Собирайся, кому говорят!
Лера спрятала лицо в складках бабкиного халата, даже въевшийся запах прогорклого масла не отпугнул. Так и стояла, подрагивая, пока Тамарка швыряла ее вещички в сумку, все эти платьица, футболки линялые, даже пижаму с пятнами от черешни – не успели застирать. Бабариха молчала. Весь август она ждала, что их хорошая жизнь закончится. Вспоминала, как росла Тамарка – колючая, как репей, жгучая, как крапива под забором. Смотрела на внучку, никак понять не могла, откуда тепла в ней столько, где хранится оно в костлявом Леркином теле? И вздрагивала от шагов на лестнице, кидалась к окну, когда во двор заезжала машина. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так в понедельник. Лето закончилось, Лерке в школу пора.
– Пущай едет, – уговаривала себя Бабариха. – Я тут ничего, обвыкну.
А когда Тамарка и правда приехала, то Бабариха обмерла вся. Ни слова не сказала. Лера все цеплялась за халат, волосы липли к мокрым щекам. Тамарка тянула ее к двери, что-то приговаривала сквозь зубы.
У Бабарихи в ушах стоял такой гул, будто стиралка старая простынь отжимает, но крик, разорвавший пыльную тишину крохотной прихожей, она услышала.
– Бабариха! – закричала Лера, рванула по коридору, обхватила тонкими ручками.
Тамарка вытолкала дочь за порог, подняла сумку.
– Как доберемся – позвоню.
Может, и правда позвонила. Бабариха так и не вспомнила. Заперла дверь, доковыляла к дивану, рухнула и провалилась в темноту. А проснулась уже сломанной. Важная деталь надломилась в ней, ни исправить, ни заменить. Может, потому и потянуло ее к мусору, богу-богово, кесарю-кесарево, а ей, как заведено, – Бабарихово.
…К бакам она шла после обеда. Брала авоську, брала костыль – вместе с чем-то важным в ней и ноги поломались, отказывались ходить, и ковыляла на соседнюю улицу, к новостройкам.
– Барчуки, – ругалась себе под нос Бабариха. – Вон какая простыня хорошая, а они в мусор! Это я зашью, тут застираю! Лерка приедет, постелю.
Чашка без ручки, сама синенькая, а цыпленок на боку желтенький? Так Лерка цыплят любит, чего не взять? Или подушка, чем не хороша? Сигаретой прожженная? Заплатку можно поставить! Лерка держать будет, а она, Бабариха, шить. Так авоськи и набирались. Растрепанные книги, чтобы Лерка читала, медведь без лапы, чтобы жалела, вазочка для сирени, вечно ведь оборвет полкуста, а ставить некуда.
Авоськи Бабариха тащила дворами. Все боялась, что спросит кто-нибудь, мол, куда это ваша Лера подевалась? А она возьмет и расплачется. Или упадет замертво. Изъян оголится, сломанная деталь выскочит из груди, расколется об асфальт. Лучше уж никого не видеть, молчать себе, перебирать все эти книжки-подушки, представлять, как обрадуется им Лера.
Когда зачастили холодные дожди, Бабариха переобулась в найденные калоши, натянула поверх халата потертый тулуп – большой ей, с чужого плеча, зато почти целый, один только клок вырван из рукава, но привычкам своим не изменила. Шла на помойку дворами, вопросов ей никто не задавал, но охламоны местные совсем измучили. Швыряли камнями, вопили в след:
– Бомжиха!
– Не бомжиха, а Бабариха, – хотелось ответить им, но язык не слушался.
Пахло от нее тяжело, руки покрылись цыпками, под ногтями грязь. Так ведь некогда мыться, скоро Лерка приедет, надо ей подарочков натаскать. Только не хворать бы, а то ноги совсем не идут, грудь давит, дышится через силу. Это все деталь проклятая жить не дает. Но Лерка приедет, и хорошо все будет. Хорошо.
Почтальон Бабариху обходил за три дома, прятал пухлую сумку, озирался испуганно и спешил перейти дорогу. Бабариха знала крепко, что там, среди подписных газет, чужих писем и весточек, обязательно лежит особенная – ее. Представляла, как расползается по цветной стороне открытки россыпь ромашек, а на другой старательным детским почерком выведено что-то важное, теплое и живое. Что-то, могущее починить деталь. Надо только догнать почтальона, потребовать свое. Да ноги не идут, как догонишь?
Куклу в ситцевом платье Бабариха нашла зимой. Кто-то посадил ее на крышку бака, чтобы собаки не погрызли. С собаками Бабариха дружила, делилась просроченной колбасой, гладила по мохнатым спинам. Куклу они не тронули. Почуяли, паршивцы, что не кукла это вовсе – Лерка. Даже косички те же – две, а на кончиках цветные резинки. Сейчас вытянется в струнку и начнет читать про остров Буян.
Бабариха схватила ее, засунула под тулуп, прижала к груди. Холодная! Бросила авоську на снег, распугала собак, понеслась, не разбирая дороги. А губы сами собой:
Родила царица в ночь,
не то сына, не то дочь,
Лерка под тулупом начала согреваться. Бабариха забежала домой, споткнулась о коробку с гнилым тряпьём, отшвырнула дырявую кастрюлю, попала в стопку прошлогодних газет, и они посыпались на пол, будто мертвые птицы с перебитыми крыльями. Но какое дело до них теперь, когда Лерка приехала? Только бы черешню найти, и совсем хорошо будет. Бабариха повалилась на диван, прикрыла собой пластмассовое тельце и начала шептать:
Кабы я была царица, –
Говорит одна девица,
То на весь крещеный мир
Приготовила б я пир.
Темнота укрывала их надежней чужого тулупа, пахло черешней и ранним августом. Лерка дышала под боком, живая и теплая, стрекотали цикады. А когда пир закончился, и царь Салтан отпустил всех домой, то Бабариха вздохнула последний раз и тоже себя отпустила.
Тожесть
Звонок вворачивается в сознание, пробивает застывшую корку, вгрызается в живое. Я открываю глаза. В комнате тускло, но светло. Так бывает, когда свет проходит сквозь серую пленку туч, по ходу движения теряя яркость. Значит, еще день. Не позже четырех. Поворачиваю голову, в шее скрипит, тупая боль поднимается от холки к своду черепа. Щупаю под собой. Где-то должен быть телефон. В нем время. Вот так задремлешь днем, проспишь час, а по ощущению – года три, не меньше. Да где же, мать его, телефон?
Поднимаюсь рывком. Комната медленно уходит по дуге вправо, а диван, и я вместе с ним, влево. В глазах двоится. Я трясу головой. Не помогает. Раздается еще один звонок. Короткий. Тревожный. И еще. И еще. Кого там принесло, Господи? В такое-то время. Кстати, в какое? Под непрерывную трель звонка ощупываю диван – складки, крошки, катышки. Телефона нет. На зарядке, успокаиваю себя, и все-таки поднимаюсь.
Ноги сходу попадают в тапочки. Широкие, истоптанные, мерзко влажные внутри. Пока я иду, неловко шаркая, звонок захлебывается негодованием. Воцаряется короткая тишина, и в дверь начинают барабанить.
– Откройте! Откройте! Вы там? Откройте!
Пытаюсь идти быстрее, но шаги даются тяжело. Мышцы ноют, будто я весь прошлый вечер простояла в планке. Или отплясывала в баре до утра, что куда вероятнее. Точно! Бар. Вот почему все так тускло, муторно и тяжело. Бар. Перебрала лишнего и ничегошеньки теперь не помню.
– Откройте! Откройте!
– Сейчас! Иду! – кричу я и сама пугаюсь голоса.
В глубине прихожей темно, свет из комнаты глохнет еще в коридоре, и я долго копаюсь с замком, пальцы не хотят вспоминать, как он работает, куда нажать, где повернуть. Дверь открывается с надсадным скрипом.
– Уже подумала, случилось чего… – говорит кто-то смутно знакомый. – Я зайду?
Отхожу в сторону, чтобы пропустить. Чужой запах щекочет ноздри – мокрая улица и тяжелый парфюм, что-то церковное, связанное, но забытое. Гостья проходит в коридор, долго и без смущения смотрит на меня. Сама она расплывается, я смаргиваю, но четче не становится. С облегчением понимаю, что проснулась без линз, и щурюсь, пытаюсь разглядеть так. Молодая женщина, высокая, волосы подстрижены, кончики вровень с мочками без серег, брови подведены ярко, а глаза совсем чуть-чуть.
– Откуда я тебя знаю? – хочется спросить, но не спрашиваю.
Будет странно. Если ей можно приходить, стучать, смотреть, значит мы знакомы крепко. И давно.
– Привет, – говорю я, а голос подводит, кряхтит, как поломанный транзистор.
– Здравствуйте, – уголки ее губ нервно подрагивают. – Как вы? Ничего?
– Ничего.
– Как самочувствие?
Замираю. Странный вопрос, заданный странно. Напряжено заданный. Нехорошо. Вот же черт. В животе скручивается узел. И я понимаю, что мне страшно стоять тут в дурацких тапочках на босу ногу и отвечать на ее вопросы. Страшно. И холодно.
– Ты зачем ко мне?..
– Ну как же? Проведать. Четверг.
Она стягивает куртку, скидывает ботинки, идет к ванной. Там вспыхивает свет, шумит вода. А я продолжаю стоять в двери. Мир продолжает покачиваться и расползаться. Тело продолжает мякнуть и болеть. Тапки продолжают быть сырыми и разношенными. Словом, ничего не меняется, кроме деятельного мельтешения чужих шагов по моей квартире.
– Эй, ты! Пошла вон! – крутится на языке, но я молчу.
– Я печенье принесла, – кричит она из кухни. – Будете?
Горло хватает тошнотой, желудок виснет в вакууме.
– Будете? – переспрашивает она с нажимом.
Я хватаюсь рукой за стену и тащусь на кухню. От скрытой угрозы в ее вопросе топорщатся волоски на руках. Я иду очень медленно. В моем теле уменьшилось количество костей, суставы перестали сгибаться, атрофировались связки, одряхлели мышцы. Мне хочется пощупать себя, проверить, все ли месте. Но руки заняты – я держусь за стены узкого коридора. Пальцы скользят по засаленной полоске с обеих сторон. Словно кто-то ходил здесь, ища опоры, много лет. Я точно знаю, что обои новые. Сколько им? Год? Два?
Пока плетусь и вспоминаю, вспоминаю и плетусь, успевает вскипеть чайник. Я вижу только очертания стола, остальное размазано тонким слоем. Опускаюсь на ближайшую табуретку, предварительно нащупав ее перед собой, как слепая. Что я такого выпила вчера? Что приняла, чтобы так крыло?
– Вам с сахаром?
Качаю головой, не надо сахар, не надо, печенье же. Чувствую сдобный дух, тянусь наощупь – жестяная коробочка распахнута, в ней кругляшки, обсыпанные сахаром с каплей джема в центре.
– Курабье, – хватаю одно, подношу к губам, узел в животе набухает, и я не могу откусить долбанное печенье, пока не услышу:
– Угощайтесь, – разрешает она и садится напротив, слишком близко.
Печенье дерет горло, я запиваю его чаем, обжигаю язык, морщусь.
– Не спешите.
И я уже почти готова выплеснуть кипяток ей в лицо. Чашка дрожит в пальцах, пытаюсь разглядеть ее, но ни черта не вижу. Не вижу. Не-ви-жу.
– Вкусно?
Киваю.
– Угадала, значит, – ее голос теплеет. – Все думала, какие вы с мамой любили.
С мамой? С чьей мамой? Моей? Она не любит сладкое. С ее? А кто ее мама? Узел стискивается все крепче.
– Как там погода? – спрашиваю я, кроша кусочек печенья на кусочки поменьше.
– Дожди начались. Ночью заморозки уже.
Меня колотит озноб, ледяные ноги мокнут в тапках, и я послушно киваю, мол, да, заморозки, да, начались.
– А вы сами-то давно уже не выходили?
– Куда?
– Наружу, – слово впечатывается в меня, пригвождает к месту.
– Вчера была, – вру я, размазывая джем по столу.
Она молчит. Сердце успевает дважды тяжело сжаться и разжаться, болезненно ворочаясь в грудине. Узел скрипит кишками, смалывает печень, рвет надпочечники, и адреналин разгоняет густую кровь.
– За погодой не угонишься – оправдываюсь я. – Вчера еще тепло было, я как раз за чаем ходила.
Страх рокочет сразу во всем теле, глушит и слепит, я бы ударила ее, но вспотевшие руки скользят по чашке. Почему мне так страшно? Кто она? Я ее знаю? Она пришла ко мне в дом, значит, я ее знаю. Надо вспомнить. Кто она? Соседка? Мамина крестная? Внучка бабушкиной подруги? Внебрачная дочь отца? Девушка брата? У меня есть брат? А отец? Ну, мама точно есть. Мы любим курабье. Или не с ней? Я вообще люблю курабье? Стоп. Кто она? Вспоминай! Это важно! Кто она? Кто? Ну!
Мир сузился до ее лица. Резкие черты – нос острый, прямой, глаза чуть раскосые, но с широким разрезом, темная радужка. Смотри еще. Щеки впалые, на правой родинка. Видела такую? Вспоминай. Морщит лоб, вон какая линия между бровями. Умыть бы, посмотреть, какая на самом деле. Может, вспомнила бы. Глаза знакомые. Знакомые глаза. Вспомнила теперь? Поняла?
Узел дернулся, от боли перехватило дыхание.
Быть не может. Похожа просто. А родинка? Родинка! Помнишь? Смеялись, что нарисованная. Все парни ее будут. На щееечкеее рооодинкаа, а в глаазаах любовь. Как? Как? Не может?.. Не может же? Ей сколько сейчас? Пять? Не больше. А этой? Сколько этой?
– Все хорошо? – спрашивает она, между бровей горбятся валики морщин, у глаз их целая сеточка, лет тридцать нужно, чтобы так изломать нежную кожицу, загрубеть ее, замучить.
Ерунда какая. Ей не может быть тридцать! Ей пять! Ну, шесть! Не больше. На той неделе я смотрела, как она малюет в цветастой прописи, и подливала вино в бокал той, что ее родила. Красное сухое и пачка курабье к нему. Черт!
Я слабо отталкиваюсь от стола, чашка звенит, но она ловит ее отработанным, взрослым жестом человека, привыкшего убирать за другими. Но я ничего не вижу. Я нафарширована раскалёнными кирпичами, залита тяжелой ртутью, просвечена фатальной дозой гамма-лучей. Меня нет. Я исчезла. Если ей тридцать. Если хоть на секунду поверить, что ей тридцать. То сколько мне? Мир застывает на мудацкой паузе, а я начинаю судорожно подсчитывать. Я начинаю вспо-ми-на-ть.
Как нюхала младенческую макушку и почти хотела себе такую же, но все откладывала и откладывала, приезжала смотреть, как она растет. Мы сидели на кухне. Смеялись оглушительно над всякой чушью. Буквально недавно. Вчера.
– Оставайся на ночь, – упрашивали они.
Обе. Взрослая и маленькая.
– У вас подъем в пять, – отнекивалась я, с трудом попадая в рукав пальто.
Мне хотелось домой, в тишину, в пыль и покой. Добраться, рухнуть на диван и проспать до полудня. Обычный вечер субботы, ничего нового.
– Позвоню.
Прощаясь, я целовала четыре щеки.
– Приходи еще! – кричала мне пухленькая мелочь, выскакивая к лифту. – Еще приходи!
А теперь она, вымахавшая во взрослую бабу, измотанную, как все взрослые бабы, смотрит на меня, морща лоб, и если я еще не сошла с ума, то теперь уже готова, совсем готова, вот прямо сейчас и схожу. Разойдитесь все.
– Все хорошо? – переспрашивает она.
И мне хочется захохотать. Все плохо, милая. Если это ты. Значит, напротив тебя сижу я. Если тебе лет тридцать пять, голубушка, если ты – вот эта загнанная молодая тетка, с морщинами, плохим макияжем и дешевыми шмотками, значит, мне под семьдесят. Но как, скажи мне, как и куда делась прорва времени? Моего времени?
– Аня, – начинаю я. – Анечка…
Что-то в моем голосе меня выдает. Она откидывается назад, табуретка скрипит, мы обе вздрагиваем. От страха зрение становится чуть острее, и я выхватываю из темноты очертания кухни – сколотый край столешницы, съехавшую с петель дверцу шкафчика, покосившийся стеллаж. Плитка покрыта слоем запыленного жира, его капли застыли на стенах, две конфорки совсем заржавели, еще одной вовсе нет, на ее месте зияет провал. Моя кухня. Любимая моя, новенькая. Ни пылинки на тебе, ни жиринки. Что с тобой стало. Что со мной стало?
Аня хватает меня за руку. У нее сильные пальцы. Я помню, какими крохотными и мягонькими они были. Узел в животе ворочается, устраивается там поудобнее. Я заставляю губы растянуться в улыбке.
– Анечка, – говорю я, по-стариковски мелко киваю головой. – У меня все хорошо, ну чего ты? Чего перепугалась?
Соберись, дура ты старая. Улови тон, пойми, что ей нужно. Только не смотри на свои руки. Не смотри на них. Не смей смотреть. Они старые, они очень старые. Кожа потемнела, вены вылезли, костяшки набухли, болят, наверное, когда дождь. Все болит. Понятно теперь, почему. В баре она плясала, как же. Лежала на диване, старая перечница. Подыхала от ревматизма.
– Спала я сегодня тревожно.
Она расслабляет спину, облокачивается на стол, смотрит сочувствующе.
– Вы таблетки пьете?
Неопределенно пожимаю плечами. Знать бы еще от чего таблетки твои.
– А надо. Вы же знаете. Надо, – она поджимает губы. – Мама тоже все не пила и… сами знаете что.
Это ее тоже, осторожное, вкрадчивое, ввернутое на проверку, заставляет узел скрутиться с ослепительную петлю. Я задыхаюсь, сама не понимая, отчего. Стискиваю зубы. Тоже. Я не знаю, что она имеет в виду, но обильно потею от ужаса. В тапках начинает хлюпать. Как часто нужно пугаться, чтобы они оставались влажными изо дня в день. Почему я пугаюсь? Потому ли что тоже не пью таблетки, как Анина мама? Милая моя, сильная моя, могущая совладать с любой бедой мама Ани.
– Я пью, конечно, пью. Не волнуйся.
Врать легко, главное не отводить от нее глаз, чтобы случайно не увидеть свои руки, постаревшие кисти, одряхлевшие запястья, пальцы в старческих пятнах. Если увижу, то заору, и она все поймет. Узнает, что я тоже.
– Расскажи, как твои-то дела? – натужно улыбаюсь я, лишь бы не позволить тишине хлынуть в комнату. – На работе как? Дома?
Аня настороженно смотрит, выискивая приметы пагубной тожести. Но я спокойна и непоколебима. Я – кремень. Я – скала. Я абсолютно нормальна. Одинокая, пожилая женщина. Не старая еще, ну, какие мои годы? Шестьдесят пять? Шесть? Восемь? Ерунда. Если не вспоминать, что вчера мне и сорока не было, то вполне себе хорошие годы. Бархатные, как сезон. Главное на руки не смотри, идиотка. Не смотри на руки. Она же все поймет. Она тут же вычислить, что ты тоже.
Смутно, как через пыльное окно, ко мне начинает пробиваться понимание. Не причины, не смысла – ощущения. Узел в животе – страх. Страх перед ней, пришедшей проверить. Узнать, я уже тоже или нет пока, еще держусь? А если да, что она сделает? Позвонит, куда следует. Самой ничего делать не нужно. Только заметить. Распознать, что началось, сушите весла. Старуха все. Старуха, как они теперь. ТОЖЕ.
Интересно, им раздают брошюры? Социальные буклеты, листовки, справочные памятки, что делать, если ваш старик тоже. Куда звонить, чем отвлекать. Как потом обрабатывать его пыльную берлогу. Нет, это не передается от человека к человеку, механизм куда более сложный. К сожалению, мы пока не можем установить точно, как он запускается. Но фактов прямой передачи не установлено. Пустая предосторожность. Пройтись пару раз. Чистящей жидкостью, санителем. Проветрить. Ничего сложного, просто, так спокойнее.
Главное вовремя распознать, что началось. Что вот эта милая старушка, как все они, тоже. Приносим свои соболезнования, но что вы хотите, возраст. Моей мама было семьдесят, когда она тоже. Ну, сами понимаете, кто-то раньше, кто-то позже. Закономерный процесс. Сходят себе с ума, потихонечку, не верят, что время их прошло. Я же еще молодой, кричат! Не было! Не верю! Где мои годы! Куда вы их дели? Это все вы, чертовы дети, вы забрали их! Вы их забрали? Вы хотели вырасти, вы забыли, что ваша взрослость – это наша старость! Куда вы их дели мое время? Отдайте! Отдайте! Да что рассказывать, со всеми одно и тоже. Да, Анечка?
Молчу. Прячу руки под стол, стискиваю пальцы. Они отвечают ноющей болью. К дождю. Аня смахивает крошки с колен, поднимается. Смотрит внимательно, сканирует, выискивает признаки. Хрен тебе, Анечка. Пусть я и тоже, а хрен. Улыбаюсь ей. Встаю. Ноги подкашиваются, но я держусь.
– Я зайду через неделю, – медленно говорит Аня.
– Да не рвись, я ничего, справляюсь, – получается ненатурально, голос вздрагивает.
– Так надо. Раз в неделю. Надо, вы же знаете.
Знаю, теперь знаю. Прийти, проверить, не пора ли, как остальным, тоже на покой? Не пора. Еще не пора.
По коридору мы идем молча. Я хватаюсь за стены, Аня загребает носками пол. Дурацкая привычка, надо же, так и осталась. Было бы смешно, не будь так жутко. Жутью пропитаны сами стены, наше молчание, скрип ее дутой куртки, и щелчок, с которым она застегивает ботинки.
– Хорошего вечера, – прощается Аня.
Я вижу, как сворачиваются в кольцо кончики ее волос. Когда-то я целовала ее шейку сзади, там пахло молоком. Может быть, это было вчера. Или тридцать лет назад. Или вообще не было. Кто разберет? Если я, как и все, кто был тогда, жил тогда, ходил, думал, ждал, любил, пил вино и закусывал безвкусным курабье, тоже? Если все мы, как один. Все мы. Все. Тоже.
– Я не хотела ее сдавать. Маму… – шепчет Аня, хватаясь за ручку двери. – Но ведь она…
– Тоже?..
– Да, как все остальные. Понимаете? Вот вы еще держитесь… А она нет. Там все признаки на лицо были. А что, если это заразно? Если бы я… Если бы я тоже? У меня сын, он еще маленький. Мне нельзя… Неужели вы раньше не боялись?.. Ну, тех, которые тоже?..
Я молчу. Это проверка. Она сама не понимает этого, но проверка. Проживи я годы, что не прожила, разве вспомнила бы, как уже тогда боялась. Стать, как они. Стать тоже… Тоже старой? Тоже сумасшедшей? Тоже беспомощной? Тоже больной? Тоже доживающей? Как смотрела в грязный пол метро, лишь бы не встретиться с их водянистыми, жалобными глазами. Уступала место, лишь бы не почувствовать запах старого немытого тела. Как испытывала неизбывную вину перед ними. И безотчетное раздражение.
Это вы здорово выдумали, Анечка, прятать тех, кто стал тоже. Ссылать. Упекать. Бог знает, что вы там делаете. Главное не видеть, не знать, не жалеть, не злиться. И ни в коем случае, не становиться такими же. Поколением зарядки от айфона. Не заработавшими пенсию, не заслужившими любви.
– Вы меня осуждаете, – чуть слышно шепчет она, тянет на себя дверь и шагает прочь, пока еще не тоже, но все мы там будем, Анечка, все.
Дверь запирается на два замка и цепочку. Удивляюсь мимоходом, когда это успела повесить ее. У меня было время. Тридцать лет. Теперь я вспоминаю их. Тусклые проблески памяти. Аня росла. Мы взрослели. Жизнь шла своим чередом. Те, кто старел перед нами, умирали. Потом мы тоже начали стареть.
Я возвращаюсь на кухню. Влажное курабье крошится в пальцах. Мои руки обтянуты пергаментом старой кожи, темные пятна на ней, как следы от пролитого кофе. Пока иду к дивану, вспоминаю, как пахла лавандой взбитая пенка рафа в киоске за углом.
Я еще надеюсь вернуть свои тридцать лет. Но они прошли. Сколько лавандового рафа я выпила, сколько коробок курабье залила вином? Кто целовал меня, кто приносил воды, кто звонил, увериться, что я в порядке? Чем полнились эти годы, если я так легко забыла их? И вспомню ли теперь, в ожидании четверга, когда Аня поймет, что я тоже.