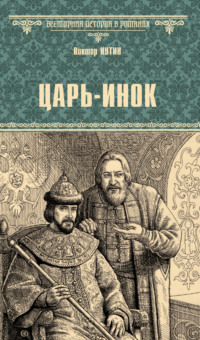Полная версия
Кровавый скипетр
Недолго пробыл он в столице – вознамерился ехать с великим князем вТроице-Сергиеву обитель. Мальчика везли в отдельном крытом возке, Василий Немой же ехал верхом. Все спрашивал об Иоанне, и слуги отвечали ему:
– Великий князь молчит, ест с опаской, воду из кувшина выливает…
– Передайте ему слово мое, – приказал Шуйский, – коли есть перестанет – не буду кормить!
Видимо, в той поездке и пошатнулось его здоровье, почуял князь неладное и на полпути вернулся, решил отъехать с семьей в подмосковное имение свое.
Когда приехал, велел растопить баню – продрог в дороге. И после бани вдруг слег с кашлем. Поначалу он сам, как и другие, не придал этому большого значения, даже вставал уже, занимаясь хозяйственными землевладельческими делами, посылал наставнические грамоты младшему брату по управлению государством, и новый удар случился внезапно. В октябре его снова свалила сильнейшая лихорадка, и после того князь уже не вставал. Имение его стало тихим в ожидании смерти старика. Анастасия Петровна, будучи намного моложе своего мужа, не любила его никогда, но жалела себя, во второй раз становившуюся вдовой, и своего ребенка, который уже был в чреве ее[7]. Молилась, плакала, причитала, пока муж ее хрипел в соседней горнице, тяжело дыша и покашливая. За этим наблюдал восьмилетний Ваня, сын Анастасии от князя Федора Мстиславского. Совсем недавно, чуть больше года назад, он видел ту же картину, как умирал его отец. Ныне – отчим. По настоянию матери молился, склоняя перед иконами свою темную головенку, борясь со страхом и отвращением, подходил к Шуйскому, опять же, подталкиваемый матерью. Василий Немой был в сознании. Обернув к мальчику утопающую в подушках потную голову, проговорил с трудом:
– Мужайся, князь Мстиславский… Смерть тебе в жизни придется видеть часто…
Прибыл вскоре с сыном Петром Иван Васильевич Шуйский. Ему ослабевший князь, как только все по его приказу покинули горницу, говорил:
– Не отступай… до конца иди… митрополита… прочь…
Но в последние дни, в те редкие мгновения, когда князь был в здравом уме, он все больше вспоминал отравленную им Елену, чахнувшего в оковах Телепнева, замученного и казненного Мишурина и тех многих других, лишенных им жизни. Греховная чаша переполнилась окончательно, и вряд ли ему будет место в раю. Он, защищавший честь и интересы семьи, пожертвовал своей душой. Но стоило ли оно того? И все казалось Василию Васильевичу пустой суетой – вся эта ненужная борьба за власть, необходимые насилие, смерть. И, стиснув зубы, плакал от страха и досады, плакал едва ли не единственный раз за всю свою жизнь. «Прости, Господи!» – молил он в мыслях своих, но понимал, что просить прощения уже поздно. Однако, находясь при смерти, не изменил себе и бредил словами: «Дума наша…Власть наша… Москва наша»…
Василий Немой скончался в конце ноября 1538 года, до конца веря, что младший брат продолжит дело его и теперь не выпустит власть из рук, полноценно передав ее однажды в руки потомков суздальских князей…
Снова темные времена настали для Руси. Захватившие власть грабили подвластные им города, обносили казну, великокняжеские кладовые, воруя оттуда золотые сосуды, шубы и драгоценности. Увидел однажды маленький великий князь, как Иван Михайлович с братом копались в государевой кладовой, деля между собой приглянувшиеся вещи. Хмуро оглядев сосуд, принадлежавший Ивану Великому, Андрей отбросил его и схватил другой.
– Ба! Вот это шуба! Неужто самого государя Василия? Хороша как! А? – воскликнул он вдруг.
– Я уже взял такую ж, так что бери себе, – отмахнулся Иван Михайлович. Притаившись за стеной, смотрел безмолвно на это восьмилетний Иоанн…
Получив власть, Шуйские бездействовали во многих отношениях. При них разорение татарами южных земель достигло немыслимых масштабов, сравнимых разве что с нашествием Батыя. Упорно и бесполезно думцы пыталась договориться между собой, дабы заключить с казанцами мир, другие настаивали на мире с Крымом. Пока шли споры в сводчатых душных палатах, горели деревни, погибал русский народ. И так продолжалось все время, пока Шуйские были у власти.
Массово видные ремесленники покидали Россию. Так бежал в Ливонию итальянский архитектор Петро Малый, возведший Китайгородскую стену, крепости в Пронске и Себеже. Уйдя, докладывал дерптскому архиепископу:
– Великий князь и великая княгиня скончались, государь мал, и бояре враждуют, своевольничают без управы, так что в Московии мятеж и безгосударственность, от которых бегут и прочие дельные умы.
В начале 1539 года в темнице умер Телепнев. Те, кто узрел труп, не узнали пышущего здоровьем красавца – это был уморенный голодом полускелет старика, беззубый, с провалившимся под ребра животом.
Тогда же Иван Васильевич Шуйский наконец исполнил приказ покойного старшего брата – владыка Даниил добровольно снимал с себя сан митрополита Московского по причине «неспособности служению» и с позором отправлялся в Волоколамский монастырь, в котором когда-то был игуменом. При выезде из Москвы его едва не растерзала толпа верных Шуйским сыновей боярских, но боярин Дмитрий Палецкий остановил озверевших ратников и дал перепуганному Даниилу уехать в обитель живым.
Иван Шуйский быстро нашел ему замену, избрав игумена Троице-Сергиева монастыря Иоасафа. И не случайно – сей священнослужитель когда-то крестил новорожденного великого князя Иоанна, да и мальчиком Троице-Сергиева обитель была любима, и потому Иван Васильевич решил, что сей исход удовлетворит всех.
Игумен был приглашен в столицу, где состоялся его разговор с Шуйским. В покоях присутствовали представители другой ветви Шуйских, братья Андрей и Иван Михайловичи, а также Федор Скопин-Шуйский, такой же властолюбивый боярин, как и его родичи.
Иоасаф, полностью седой, сухой и низкорослый, сидел за столом, полным угощений, но не притрагивался ни к еде, ни к вину. Облачен он был в простую черную рясу, длинная белая борода была аккуратно уложена.
– Значит, святители одобрили уход Даниила, – спрашивал игумен с недоверием. Недовольство его было понятно – нарушены многие церковные правила, и произошедшее низложение явно было противозаконным.
– Одобрили и сообща согласились, что тебе надобно стать владыкой, – улыбался довольный собой Иван Васильевич. Иоасаф поджал губы. Понял он, что настали темные времена не только для государства, но и для русской Церкви, во имя политических интриг попирающей христианские догмы. И как удержать ее от этого падения? Как укрепить? Да и кто возможет?
– На том я и согласен стать митрополитом, – сказал вдруг Иоасаф. Шуйские, улыбаясь, подняли чары. Немного пригубил вина и сам игумен…
Рад был Иван Васильевич, еще не ведая, что Иоасаф не из тех, кто станет плясать под чью-то дудку и потакать противозаконному управлению государством. Еще немало времени пройдет, прежде чем правитель поймет, что создал для себя еще одного могущественного противника.
* * *Когда стемнело, Иоанн зажег в покоях свечку и, сев около нее с книгой, начал читать. Для своих лет мальчик многое прочел: знал едва ли не наизусть тома церковных книг, уже начинал познавать труды древних мудрецов: Тита Ливия, Полибия, Тацита. Возможно, униженный своими подданными, лишенный власти, он пытался почерпнуть что-то из истории о великих царях прошлого. Как заставить бояться себя? Как внушать подданным страх? Как стать великим государем?
Укутавшись в длинный кафтан, стуча зубами от холода, Иоанн пытался греться у свечи, но вскоре она сгорела, и в покоях стало совсем темно. Где-то за окном слышались пьяные песни и крики – бояре снова устроили пир, на котором они напиваются до беспамятства и жрут, словно свиньи. Наверняка и еды там много. Вспомнив о еде, голодный мальчик застонал – его не кормили уже почти два дня.
Не раздеваясь, Иоанн, дрожа всем телом, лег на кровать отца. В темноте из воспоминаний начали появляться образы прошлого – мать, Телепнев, кормилица Аграфена. До сих пор помнил ее колыбельные, ее песни, помнил ее ласковые теплые руки и смех. Помнил, как слышал крики Аграфены из коридоров дворца, когда ее насильно увозили в монастырь. Он тогда рыдал в запертой опочивальне своей, закрыв уши, глотая градом льющиеся слезы. И с тех пор он затворник в этих нетопленных покоях, предоставленный сам себе. Иногда к нему приводят младшего брата, но Иоанн не любит сидеть с ним, считает его сумасшедшим.
Днем мальчика наверняка выведут присутствовать на приемах иностранцев, одев в государевы одежи, а после, как все закончится, заберут атласный кафтан и великокняжескую шапку, снова отведут в эти пустые покои и запрут. Шуйские! Все они! И детская рука Иоанна от бессилия сжалась в крепкий кулачок…
Дверь открылась. Мальчик вскочил и с испугом начал вглядываться в темноту.
– Кто? Кто тут?
– Не пугайся, батюшка государь, это я, Воронцов Федор. Не гневайся на слугу своего. Поесть я тебе принес, Иоанн Васильевич.
Щурясь, мальчик вглядывался в темноту, пытаясь лучше разглядеть приближающуюся к нему тень. Зажглась свеча, и отрок наконец увидел Воронцова – низкого, с залысиной, с черной, окладистой бородой и мясистым носом – эдакий с виду деревенский мужик, а на самом деле выходец из старинного рода дворянского. При отце Иоанна воеводствовал в Вязьме, но особо себя не проявлял. Иоанну его лицо было едва знакомо, видел его лишь однажды в толпе придворных.
Федор преподнес Иоанну две зажаренные ножки гуся и кружку с квасом. Поглядев на это, с блестящими глазами мальчик набросился на еду и принялся жадно есть. Воронцов огляделся и спросил:
– Тебе, государь, что, покои не топят?
Отрицательно помотав головой, мальчик обгладывал гусиную кость. Глубоко вздохнув, Воронцов сел рядом с мальчиком и погладил его по кудрявой голове.
– Морят тебя холодом-голодом, ироды проклятые, – проговорил он, тяжело вздохнув. Вскоре с едой было покончено, и мальчик, вытирая умасленный рот рукавом, проговорил:
– Благодарю, сердешный, что не дал мне голодным уснуть. В век тебе не забуду.
– Как твое здоровье, государь? – осведомился заботливо Воронцов. Лишенный ласки и всеми брошенный, мальчик тут же доверился ему.
– Лихорадит меня, Федор, зябко…
– Прикажу натопить здесь. Да и переодеться надобно.
Приказав слугам пронести поленья, Воронцов сам забросил их в камин и начал разжигать. Вскоре заиграло яркое пламя, затрещали поленья. В покоях сразу стало тепло и уютно. Иоанн лежал в постели, умиротворенно улыбаясь. Давно ему не было так спокойно.
– Останься со мною, Федор, – тихо попросил он. Воронцов сел на колени перед кроватью и, взяв отрока за руку, дождался, пока он уснет.
– Боярин Иван Васильевич Шуйский давеча был. Каждый день заходит, – шептал мальчик, – на батюшкину кровать, в коей скончался он, опирается локтем, а в кресло батюшкино ноги в сапогах укладывает…
Тут голос Иоанна дрогнул, он поджал губы, слезы досады и обиды скатились из его глаз. Федор слушал, нахмурившись, удивлялся, как Шуйские умудряются так унижать великого князя своего, пользуясь его беспомощностью. Сидел у ложа, гладил кудрявую голову володетеля московского и вскоре услышал ровное дыхание и детское сопение. Тогда, тихо поднявшись с колен, покинул покои Иоанна, вручив при выходе стражнику небольшой звенящий деньгами кошель…
Так нежданно недруги Шуйских нанесли им первый удар…
* * *Пока Русская земля переживала сие тяжелое время, жизнь людская шла своим чередом – люди рождались и умирали, посадские работали на земле, вели хозяйство, священники крестили детей и проводили службы, ратники охраняли рубежи.
Ноябрьской морозной ночью в Москве умирал человек, помнящий еще походы Ивана Великого, прославленный воевода, боярин и окольничий Михаил Юрьевич Захарьин. Умирал тихо и мирно в своей постели на седьмом десятке лет.
Он прожил насыщенную жизнь, не каждый из тех, кто был при дворе, мог похвастаться таким послужным списком: участвовал в походах Ивана Великого, в покорении Пскова и Смоленска Василием Третьим, выполнял особые поручения великих князей, будучи послом в Литве, хорошо разбирался в артиллерии. После смерти великого князя Василия был назначен одним из опекунов малолетнего Иоанна. Не было и месяца, чтобы сей боярин просидел дома в кругу семьи – то Михаил Юрьевич заседает в думе, то на юге собирает рати против ополчившихся татар, то принимает иностранных послов. И кое-что подкосило пышущего здоровьем боярина – бегство в Литву с Семеном Бельским родича, окольничего Ляцкого. Долго переживал Михаил Юрьевич от этого позора, занемог, теперь же наконец упокоился навсегда, и многочисленная его родня приезжала проститься с ним.
Захарьины – потомки московских бояр. Первый достоверный предок их – Андрей Кобыла перешел на службу к Ивану Калите еще двести лет назад. Всегда они были близки государеву двору, верно и отважно служили Московскому княжеству, но не могли тягаться по родовитости с прочими боярами, хотя и были родней великокняжеской семье – по материнской линии Иван Великий был прапраправнуком Андрея Кобылы, который, впрочем, дал начало многим дворянским родам.
Сани с раннего утра прибывали к скромному терему новопреставленного. Приехали рыдающие навзрыд, постаревшие, раздавшиеся вширь сестры. Прибыл с супругой самый младший брат, Григорий. Подтянутый и крепкий, он, в длинной медвежьей шубе, вышел из саней, оглядел все вокруг из-под черных суровых бровей, пробился через толпу у терема и вскоре уже подходил к горнице, откуда пахло свечами, ладаном и мертвецом. В дверях встретился с сестрами, опухшими от слез, обнял их, позволил всплакнуть на своих плечах и спросил тихо:
– Роман уже здесь?
– Едет, – отвечала сестра Феодосия, – с детишками едет…
Погладив сестру по плечу, Григорий с женой вступил в полутемную горницу и увидел гроб, возле которого сидела рыдающая жена покойного и двое его сыновей – Иван и Василий[8]. Дети у Михаила Юрьевича были поздними, старшему из них не исполнилось тогда и шестнадцати. У изголовья диакон тихо читал молитвы. Подступив ближе, Григорий заглянул в лицо брата. Он лежал желтый, костистый, строгий. Вдова обернулась и, увидев пришедшего, бросилась к нему, безутешно бормоча что-то несвязное. Диакон, продолжая читать, вскинул строгий, осуждающий взгляд и снова опустил глаза в книгу.
– Ну, полно, полно, дорогая, – утешал вдову Григорий, приобняв слегка, затем отпустил ее, и вдова обнялась с его женой, после чего обе разревелись друг у друга в объятиях. Григорий подошел к племянникам. Старший Ванята вскинул на дядю строгий взгляд – было видно, старается держаться, а Васюта сидел зареванный, со сжатыми дрожащими губами. Григорий поцеловал каждого и встал у гроба, сложив на животе руки. Казалось, он еще не до конца осознает и верит происходящему, казалось, не узнает в этом пожелтевшем строгом старике с длинной седой бородой своего брата, веселого, решительного Мишку, который после смерти отца всю их семью держал в узде. Перед глазами беспощадно всплывали картинки из детства, которые никак не вязались с происходящим.
Григорий услышал за спиной неровные шаги, сопровождаемые стуком трости – прибыл Роман. Он тяжело ковылял, и каждый шаг отдавался острой болью во всем теле – это было видно по его вымученному бледному лицу и по болезненным черным кругам под глазами. Как и старший брат, Роман рано полысел, с недавних пор, как его отстранили от воеводства из-за неведомой болезни костей, он начал брить и бороду. С ним была его жена Ульяна, еще красавица, чей стан не испортили пятикратные роды, а лицо ее по-прежнему сохраняло молодую свежесть, хотя ей было уже за тридцать пять. Ульяна шла, утирая платочком глаза, затем с сочувствием обняла вдову и расцеловала ее. Вслед за ней вошли все пятеро детей этой четы: Далмат, Данила, Анна, Никита и Анастасия. Далмат и Данила, одногодки, были самыми старшими среди потомства братьев Захарьиных, уже проступают в их взоре некая взрослость и осознание происходящего. Оттого они, поддержав сродных осиротевших братьев нужным словом, стоят у гроба и пристально глядят на покойного с печатью глубокой думы на лицах. Их младшие сестры и брат Никитка не отходят от матери, как испуганные цыплята. Роман Юрьевич подошел совсем близко к телу брата и оглядывал покойного скорбно и жадно, глаза его заблестели от слез.
– И все-таки он был из нас самым видным, – проговорил Роман Юрьевич сдавленно, и кадык на похудевшей шее, поднявшись вверх, опустился, – никто из нас так и не попал в думу, кроме него. Походы, воеводства – все было. Но управлять державой – нет. А ему довелось.
Данила вскинул в сторону отца какой-то ревнивый взгляд. С трудом Роман Юрьевич нагнулся и поцеловал брата в холодный лоб. Григорий подавил вздох – сказанное Романом и его задело за живое. И понимал – пока среди властителей идет грызня, пока государь мал, не выбраться им в думу. Ныне со смертью Мишки возможность эта пропала окончательно. Роман уже отстранен от службы и, глядишь, сам уже не жилец, судя по его нездоровому виду. И Григорий оглядел многочисленных племянников – хватает продолжателей семейного дела!
– Ничего, не мы, так они дело Михайлово продолжат, а там, глядишь, во главе думы стоять будем, – сказал он тихо. Сыновья Михаила и дети Романа стояли в этой полутемной горнице. Конечно, никто не ведал, какая великая судьба ждет их семью. И Данила, услышав изречение дяди, вновь посмотрел на большое широкое тело покойного и сказал себе тихо:
– Обещаю, дядя Михайло, я в думу попаду… И управлять всем буду. Богом клянусь, попаду! Ты только помогай мне…
* * *В декабре из Москвы отправлялось посольство в Константинополь. Для султана во имя продления мира были приготовлены многочисленные дары, уже уложенные холопами в сани. Стоя на подворье в потасканной заячьей шубе и бобровой шапке, за этим молча наблюдал тот, кто и должен был все это вручить султану – Федор Григорьевич Адашев. Это было его первое столь важное поручение. В важности сего дела никто не сомневался, всем было известно, что Турция, пока еще ни разу не вступившая с русскими в прямую борьбу, натравливает на нее своих «вассалов» – татарские ханства. Во многом от турецкого султана зависел мир на южных рубежах государства.
«Мог ли я подумать о том еще пять лет назад», – думал Федор Григорьевич и, вздохнув с волнением, поднял голову в сумрачное зимнее небо. Незнатный костромской дворянин, не видевший никогда ни богатства, ни славы, начинал службу сыном боярским с младых лет. И казалось, что до конца жизни придется ему прозябать вот так, выступать с походами, спать с однополчанами в пропахшей потом и немытыми мужскими телами тесной избе, мерзнуть холодными зимними ночами у костров, скакать бешено из одного города в другой с каким-либо важным поручением. Поначалу, когда молод был, все это безумно нравилось, но с годами захотелось большего. А когда женился и родился первый сын – Алешка, все думалось, как из этого прозябания вырваться. И ведь смог, вырвался. Вскоре уже и великий князь Василий о нем узнал. Федор был счастлив, почуяв нутром, что это и есть его шанс! Но спустя немного времени Василий Иоаннович умер, и Адашев невольно решил, что все для него потеряно. Не тут-то было! Рождение второго сына, Данилушки, не позволило ему сдаться! Помог тому, познакомился с тем, договорился там – и вот спустя три года он уже стольник при дворе, подносит мед польским послам на приеме. Его уже знают при дворе как человека надежного, и Федор грезит, что однажды пристроит своих сыновей ко двору, самому государю, например, одежду подавать!
– Готово все, Федор Григорьевич! – доложил холоп, указывая на загруженные сани. – Завтра запряжем коней да тронемся в путь!
Последняя ночь дома перед отъездом в далекий Константинополь. На дворе воспитатель сыновей Мефодий учил их, сидящих на крыльце, орудовать саблей. Что-то негромко объяснял им, а затем, развернувшись, рубанул установленный рядом на доске мешок с сеном.
– Мефодий, дай я, дай я! – запищал восторженно Данилушка, протягивая детскую пухленькую ручонку. Мефодий, крепкий, жилистый и высокий литвин, взятый еще мальчишкой в плен отцом Адашева в походе на витебские земли в 1515 году. Он вырос хорошим воином, очень сблизился с Федором, ходил с ним в походы и теперь стал настоящим членом семьи. Перестав уже быть холопом, он все же посвятил всю свою жизнь службе семье Адашевых, и теперь под его присмотром росли дети Федора.
– Ну, подержись, – протянул Мефодий Данилушке саблю, – токмо не порежься!
Данилушка саблю не удержал, пригнула она его к земле, но мальчик, упорствуя, поднял клинок и ударил по мешку, не причинив ему, конечно, никакого вреда. Алешка усмехнулся, хотел было бросить в сторону брата обидную шутку, но, завидев подъезжающего отца, почтительно поднялся, сделавшись серьезным. Опомнившийся Мефодий забрал у Данилки саблю и убрал ее в прицепленные к поясу ножны.
– Здравствуй, Федор Григорьевич!
Адашев, слезая с коня, кивнул ему с улыбкой и, поглядев на детей, спросил:
– В училище-то[9] ходили сегодня?
– Ходили, батюшка, – отвечал Алеша, выпрямившись перед отцом. Федор отдал подоспевшему холопу коня, кивнул и, обернувшись к Мефодию, спросил:
– Как учатся-то?
– Алешка, почитай, самый грамотный среди своих! – гордо отвечал воспитатель. – Учитель назначил его старшим, будто с равным обращается! Он и читает, и наизусть уж много рассказывает…
– Про него я и так ведаю. А Данило как? – строго взглянул на младшего Федор. Данилка поник головой, насупился. Уже не раз ругал его учитель, даже розгами наказывал – не лежит у мальчика сердце к учебе, больно задирист и ленив!
– Зато в ратном деле нет ему равных! – предугадав мысли Адашева, отвечал находчиво Мефодий, подмигнув Данилке.
– Ежели я их при дворе устроить смогу – на кой черт им это ратное дело? – раздраженно сказал Федор и пошел в дом. Мефодий, стараясь выгородить младшего воспитанника, отвечал, следуя за Адашевым:
– Как это зачем? А вдруг – поход? Крепкая рука воина в государстве, почитай, всегда нужна!
– Не только крепкая рука важна в том же походе, но и светлый ум, и знания, коли воеводами станут! – напутствовал Адашев, отдавая холопке теплую одежду, затем добавил, чуть помолчав: – Мефодий, меня долго, видать, не будет! Ты уж проследи за ними, спуску не давай, учебу пущай не отвергают!
– Федор Григорьевич, так, может, мне с тобой лучше? Оно, глядишь, безопаснее будет!
Вышла супруга Адашева – кротко и молчаливо поглядела на него, будто тоже ожидала, что же ответит муж. Помолчав, он отрицательно замотал головой и сказал твердо:
– Со мною будут надежные сопроводители, опытные воины! А твое место здесь – за семьей нашей и хозяйством приглядывать!
Мефодий согласно склонил голову.
– Я кликнула, на стол накрывают. Чай, перед дорогой последняя вечеря, – сказала тихо супруга.
Пока ели, старался не замечать взволнованного взора жены, не думать о предстоящей дороге. Федор глядел на сыновей, не уставая мыслить о том, как их устроить в жизни. Сейчас они сидят друг с другом, уткнувшись в блюда – оба кудрявые, светловолосые, со вздернутыми носиками, такие родные и любимые! Как же хочется, чтобы добились в жизни они большего, чем их отец! Лешка бы в думе сидел, ибо ученым растет, знает уже много больше своего родителя! Данилка бы воеводой стал, раз к ратному делу душа лежит!
– Ох, заметет за ночь, – прервал неловкое за столом молчание Мефодий, поглядев в окно, за которым угрожающе гудел начавшийся буран.
– Заметет, – отвечал все еще погруженный в свои мысли Федор, коему было не до пустых разговоров – в его мечтах оба сына в блистающих доспехах приносили России новые победы, зарабатывая себе и роду своему вечную славу…
Глава 7
Лето 1540 года
– Как посмели они! Как посмели! – крик Ивана Васильевича Шуйского из верхней горницы сопровождался грохотом разрушаемой утвари и звоном бьющейся посуды. Слуги и холопы пугливо втягивали головы в плечи, боясь попасть под горячую руку, прятались по углам. От шума расплакался внук князя, годовалый Ванята. Няньки, завернув его в пелена, торопливо уносили малыша в дальнюю горницу, покачивая на руках. Петр Шуйский дождался, пока за дверью стихнет яростный вопль отца, и лишь затем вошел. Задранные ковры были усеяны осколками посуды, обломками кресел, бумагами и перьями из растерзанных подушек. Серебряные подносы и кубки разбросаны тут и там. Иван Васильевич стоял красный, тяжело дышащий, легкий татарский кафтан сполз с костлявого левого плеча. Петр твердо глядел на отца, молчал.
– Это крамола! Заговор против нашей власти! – прошипел Иван Васильевич. – Хотят Бельского видеть во главе государства! Ну что ж… посмотрим! Посмотрим…
Гнев Шуйского был вызван вестью о том, что митрополит Иоасаф с некоторыми боярами просили десятилетнего Иоанна помиловать сидящего в темнице Ивана Бельского и вновь ввести его в думу. Мальчик, конечно, великодушно согласился, и в тот же день князь был освобожден. Это означало одно – власти Шуйских они не хотели.