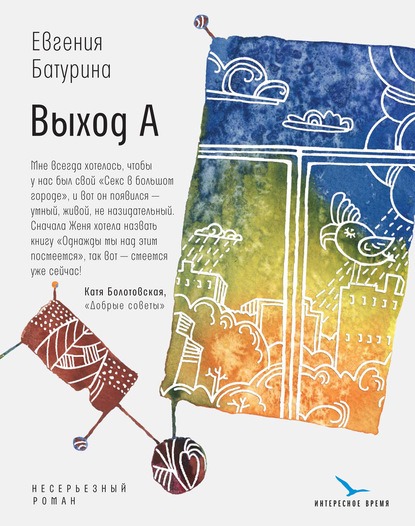Полная версия
Смотри: прилетели ласточки

Яна Жемойтелите
Смотри: прилетели ласточки
© Я. Жемойтелите, 2019
© «Время», 2019
* * *Смотри: прилетели ласточки
Огромный, до потолка, двустворчатый шкаф с зеркальными дверцами был сам как отдельный дом. В нем очень давно не висели женские наряды, потому что выжившая из ума бабка, которая некогда проживала в этом крыле, угасла очень давно, еще когда Вадим был маленький. А ему не так давно стукнуло тридцать четыре, значит, это действительно случилось очень давно, где-то в пятидесятых. Наденьке представлялось, что в ту эпоху женщины были похожи на женщин – в приталенных платьях, с юбками солнце-клеш, а мужчины на мужчин – в шляпах и двубортных пиджаках с ватными плечами. По крайней мере, старались люди тогда одеваться стильно. Сейчас вообще-то тоже старались, только одежда, которая висела в магазинах, на одежду вовсе не походила. То есть годилась разве что срам прикрыть, а более ни на что. И сапожки Наденька сносила вдрызг еще прошлой зимой, до замужества. Но сапожки Вадим ей обещал достать через каких-то своих московских знакомых. Он как раз собирался в Москву, в какое-то новое издательство, которое печатало фантастику, которую не печатали при советской власти. А у них в городе фантастику не печатали вообще никогда, даже в толстом журнале «Северные зори», хотя Вадим сам в этом журнале работал. Туда брали только деревенскую прозу и стихи про березки.
Пальто у Наденьки тоже сносилось за несколько предыдущих студенческих зим, манжеты пообтрепались. Новое пальто ей купила мама как бы на прощание, сразу после свадьбы. И теперь Наденьке казалось, что она Царевна-лягушка. То есть лягушка стала царевной, изменив свой социальный статус: Наденька окончила университет с дипломом филолога, вышла замуж, а значит, у нее были все основания одеваться не по-студенчески, в сестринские обноски, а прикупить наряды, приличествующие учительнице русского языка и литературы. Хотя она полагала, что это работа временная. Она никогда не мечтала работать учительницей, ей с детства хотелось стать писательницей или журналисткой на худой конец. Наденька тогда еще думала, что это почти одно и то же. Вот и написала статью о региональной художественной выставке, потому что живопись ей тоже нравилась, хотя она и окончила в родном городе филфак и книжки читать любила. Теперь мама говорила, что правильно сделала, что отдала ее на филфак, как будто Наденька была вещь, которую отдали в химчистку и там прочистили ей мозги от всяких глупостей. Глупости – это медицинский факультет, на который конкурс четыре человека на место. Не пройди Наденька по конкурсу – и что потом? В дворники или на фабрику валяной обуви. Последняя звучала слишком страшно – это ж надо валенки валять восемь часов подряд, русскую народную обувь! В общем, филологи с высшим образованием всегда при деле, давай-ка ты не дури.
Дурью называлось все, что Наденька делала по своей воле, не спросив разрешения. Однажды ей брюки купили не то чтобы на вырост – выросла уже Наденька, куда дальше, однако брюки оказались в полтора раза Наденьки шире. «Ну так поясом можно подхватить – и порядок, а зимой еще рейтузы пододенешь…» В общем, Наденька эти брюки распорола до кусочка и заново на себя перешила, узкие сделала, почти в обтяжку. Вот уж дурь-то какая! И не стыдно в таких ходить-то? – А вот не стыдно, не стыдно! Только относила без настроения, потому что радость обновки была испорчена этим «не стыдно?». Потом однажды кофточку нарядную на занятия надела, просто по весне захотелось немного себя украсить. – Придумала тоже, в шелках на занятия ходить! Мать у тебя не миллионерша.
И это была правда. Простая совслужащая, мать экономила на мелочах, даже телевизор на ночь из розетки выдергивала, потому что он все равно энергию жрет, если вилка в розетке. И Наденьку учила быть экономной, потому что, ежели припрет, копейку просто так никто не даст. Поэтому платьица Наденька надевала только по праздникам, брюки были гораздо экономнее: под ними можно было рваные колготки спрятать. А еще Наденькина мама мечтала, чтобы дочка удачно вышла замуж. Но вот тут намечалось явное противоречие: разве можно вообще кому-либо приглянуться в брюках на три размера больше и кофточке в катышках с сестринского плеча?
Наденькина сестра, кстати, замуж еще в институте вышла за курсанта военного училища, на танцах познакомились. Ну, танцы – понятное дело, кудри-мудри всякие, сестренка себя преподнести умела, да Наденьке еще и в школе казалось, что мама старалась сестренку поскорей на попечение какого-нибудь мужа передать, потому что сестренка была красивая, но глупая, а Наденька совсем наоборот. Училась отлично, а с виду – серая мышка, вот и проигрывала на фоне своей сестры. В общем, уехала сестренка с мужем в Венгрию, в военный городок, и теперь оттуда посылала импортные, но все же обноски. И в результате получилось, что это она удачно вышла замуж. Потому что в жизни случается именно так, что красивым – все. «Хорошо быть красивой», – думала Наденька, печально разглядывая в зеркале свои острые, почти детские плечики и оттопыренные, как у Чебурашки, уши. С такими ушами и сережки не будешь носить, чтобы лишний раз внимание не привлекать к ушам.
Сама Наденька замуж вышла неожиданно и почти случайно. Принесла в редакцию «Северных зорь» эту свою статью о республиканской художественной выставке, робко постучалась в дверь с грозной надписью «Отдел публицистики», а за этой дверью как раз сидел Вадим Петрович Сопун. Писатель, настоящий! Пусть пока неизвестный, но наверняка гений. Гениев ведь, как правило, не признают современники. А Вадим Петрович Сопун выглядел ну точно как гений – с торчащими в стороны тараканьими усами, то есть не тараканьими, конечно, а как у Сальвадора Дали. Работы Сальвадора только в моду входили, о них начинали говорить как о серьезном искусстве, таком же правомерном, как и живопись соцреализма. Наденька живопись соцреализма откровенно не любила. Именно потому, что она правдиво передавала действительность, столь же хмурую и дождливую, как и полотна мастеров известного жанра. Трудящихся еще живописали на этих полотнах так, как будто созданы исключительно для тяжелого ручного труда и готовы работать по 24 часа в сутки на фабрике валяной обуви. Фамилия у Вадима, правда, была неблагозвучная, но можно привыкнуть.
В общем, Вадим Петрович статейку ее одобрил, посоветовал только слегка сократить, потому что много в ней было воды, а сейчас нужна лаконичность. «Но в целом вполне прилично, барышня, вполне прилично, вам есть смысл писать». Ей польстила эта «барышня», потому что так ее еще никто не называл. И незаметно Наденька пристрастилась в «Северные зори» захаживать на чай. Тогда во всех редакциях чай пили с сушками и еще курили без зазрения совести прямо авторам в лицо. Наденька сама не курила, но ей уж очень хотелось быть поближе к литературе, приходилось терпеть и табачный дым, и общую неустроенность редакционного быта. Темно-синие стены, как в вокзальном туалете, коричневую от никотиновых масел штукатурку на потолке, мебель, которую, вероятно, выхлопотали для редакции сразу после войны… Да разве стоили внимания такие мелочи, если внутри этого не слишком уютного мирка ковалась настоящая литература. Рукописи нумеровались, регистрировались в толстом журнале, принимались и выбраковывались, отправлялись на редактуру и корректуру. В соседнем кабинете остроглазая техническая редакторша выполняла верстку с помощью ножниц и клея, отпуская непонятные реплики типа: «Тут растр полез». Какой растр? Куда полез? И что такое кегль и интерлиньяж? В общем, в редакции люди занимались, безусловно, нужным и сложным делом, и Наденька тоже очень хотела работать в редакции, но все должности были заняты.
На стене в кабинете Вадима Петровича висел портрет Барклая де Толли. Наденька сразу его узнала – лицо, знакомое еще со школы, и так ей еще показалось, что Вадим Петрович немного похож на Барклая, только с сальвадоровскими усами. И ростом, наверное, чуть пониже, не такой длинноногий, как Барклай. Но что-то общее, несомненно, было. Заметив Наденькин заинтересованный взгляд, Вадим Петрович подтвердил, что они с Барклаем как бы родственники. То есть бабкина сестра еще до войны вышла замуж за последнего из рода де Толли, но их вместе с мужем расстреляли в 1938 году. За что? А за то! За иностранное происхождение то есть.
– В семидесятых годах я в Ленинграде учился. Чтобы доехать до общаги в студгородок, надо было делать пересадку у Казанского собора, – рассказывал Вадим Петрович за чаем как-то уж чересчур гладко. Наденька даже смекнула, что он рассказывает эту историю десятый раз. – Первое время мне, провинциалу, бывало тоскливо. И я любил посидеть на заснеженной скамейке у фонтана перед собором, спиной к «бронзовому дядьке» Михаилу Богдановичу. Приятно было покурить, пивка попить, подумать обо всем без суеты, ощущая спиной что-то незыблемое и честное…
Наденька слушала, проникаясь мыслью, как мало она знает о жизни и как еще мало повидала на своем веку. А впереди светило распределение в малокомплектную деревенскую школу. Большинство сокурсников обзавелись справками о состоянии здоровья или даже собственными детьми, так что имели все шансы остаться в городе. А Наденька, как существо абсолютно здоровое и бездетное, вынуждена была выбирать деревню на жительство из длинного списка неперспективных, то есть таких, в которых из мужского населения к концу 1980-х остался в живых один тракторист. Ну и еще шофер автолавки, если это не одно и то же лицо. А замуж выходить все равно за кого-то надо.
Однажды Вадим Петрович позвонил ей просто так, без всякого дела, справился, почему она целую неделю не появлялась в редакции. «Заходи, чайку попьем», – он незаметно перешел на «ты». И Наденька пошла. На сей раз они говорили о Достоевском, Вадим Петрович, кстати, очень интересную версию выдвинул, что роман «Преступление и наказание» написан в виде фуги, это когда одна и та же тема перепевается на разные голоса. Идея Раскольникова так ведь и не была заявлена прямо, сказано только, что сперва Раскольников опубликовал по поводу какую-то статью, потом обсудил момент с Мармеладовым и с Сонечкой переговорил… Так а какая конкретно идея, как она словами оформлена – этого и не заявлено вовсе. Кстати, Федор Михайлович имел самую большую в России коллекцию топоров. О Некрасове Вадим Петрович тоже интересно рассказывал, что был Некрасов большой игрок и журнал свой толстый на выигранные деньги выпускал. А если случалось Некрасову проиграть, тогда и журнал не выходил. Не то что «Северные зори» – тут в лепешку разбейся, а по номеру в месяц выпусти. А печатать практически некого, тягомотину пишут, особенно старперы. Да еще и митинговать начинают в редакции: «Молодежь должна знать!..» Молодежь даже не в курсе, как выглядят эти «Северные зори».
Некогда Вадим Петрович сам ездил по семинарам молодых литераторов, печатался в «Авроре», «Уральском следопыте», «Костре», «Колобке», «Искорке», еще в нескольких журналах и альманахах, но в «Северные зори» его упорно не принимали. Однажды главред высказался почти без эвфемизмов: «Это там, в Москве, для кого-то ты открытие, а для нас ты говно!»
– «Северяне» год от году на встречах с читателями повторяли и повторяют, что они насквозь прогрессивные и передовые, потому что в 1967 году «Привычное дело» Белова напечатали. Двадцать лет прошло! И вот слушаю я наших «северян» и вспоминаю мачеху Сонечки Мармеладовой, как она со слезами умиления на глазах рассказывала собутыльникам мужа, будто на выпускном балу танцевала с шалью и сам губернатор ей ручку пожимал! Вот это кайф!
– Как же вас в редакции терпят? – невольно вырвалось у Наденьки.
Вадим Петрович смачно, в голос расхохотался:
– А это потому, что других дураков нет работать на мизерной ставке.
Честно говоря, Наденька сама до прихода в редакцию «Северные зори» не читала, ну, пролистала пару раз в библиотеке, и ей показалось неинтересно. Ей больше нравилась зарубежная классика – Оскар Уайльд, Джон Голсуорси и прочие английские аристократы, которые умели с тонкой иронией переживать все невзгоды и перипетии бытия.
Вот, впрочем, как и Вадим Петрович. Он жил в частном доме с печным отоплением на Старой Петуховке, почти в пригороде, то есть как бы за пределами освоенного пространства жизни. Был он на двенадцать лет старше Наденьки, но ведь в досюльние времена разница в возрасте была даже в моде. А что некогда был женат, так давно овдовел, и ребенок от первого брака проживал в деревне с родителями жены… Может быть, Наденьке просто захотелось самостоятельности, выпорхнуть наконец из родительского курятника и зажить самостоятельно. Что она до сих пор видела в жизни, кроме университетской аудитории, Ленинграда и Москвы, где несколько раз в жизни бывала по случаю? Ей казалось, что то, что было до сих пор, никак не могло называться настоящей жизнью, потому что об этом и сказать-то было нечего. А та, настоящая жизнь, о которой писалось в книжках, протекала где-то в ином месте, где люди умели жить иначе. Как? Она и сама не умела этого объяснить.
А может, к двадцати двум годам ее стала тяготить чрезмерная мамина опека на грани мании, когда каждый захудалый кавалер рассматривался на предмет перспективы, в том числе не еврей ли он или, не дай бог, кавказец, не претендует ли прописаться в их квартире и т. д. Конечно, это была такая форма проявления любви. В смысле – с маминой стороны. Но когда барышню в родном доме любят с такой неистовой силой и с другим отношением вовне ей не доводилось еще столкнуться – Наденьку и в школе хвалили за отличные оценки, и в университете, – ей представляется, что и весь мир не может относиться к ней как-то иначе, несмотря на множество ее недостатков, главным из которых были, конечно, оттопыренные уши.
Петуховку отрезала от города железная дорога и длинный ряд гаражей, параллельно которым тянулось шоссе. Автобус останавливался только по требованию, и от этой остановки, пятачка забетонированной суши, открытого всем ветрам и дождям, народная тропа вела к железной дороге и дальше, к кучке домишек на пригорке. И если поперек тропы вдруг останавливался длиннющий товарняк, ничего иного не оставалось, как лезть через сцепление вагонов или между колес, потому что по буеракам, да еще в темноте поезд не обойдешь, причем по этому поводу в Старой Петуховке никто особо не миндальничал: мол, да что с тобой станется? На памяти обитателей под колесами погибла только одна собака. Отправилась погулять да и сложила голову на рельсах по глупости.
Однажды так случилось, что Наденька с Вадимом Петровичем, Вадимом, полезли через состав. Она, конечно, переживала, но он ее так крепко за руку держал, что стало понятно, что бояться нечего. Нет, вот эта мужская крепкая рука, протянутая в нужный момент, скорее всего, и решила дело. Наденька с сестрой выросли без отца, поэтому она плохо представляла себе, что такое мужчина в доме вообще. А тут вдруг невольно выдернулось воспоминание, как папа ее за ручку из детского сада ведет. И она чуть не заплакала – думала ведь, что она этого не помнит, а вот, оказывается, помнит!
Вадим сам бывал до слез сентиментален. Она заметила это впервые на фильме «Амадей», в котором Моцарт изображался как дурачок, сочиняющий божественную музыку. И вот на этой самой музыке Вадима пробило, он даже носовой платок у Наденьки попросил, а она сидела и думала: «Надо же». Потом, когда вышли из кино, он признался, что впервые это случилось с ним на золотистой пятке блудного сына, когда он Рембрандта увидел в Эрмитаже. Вроде бы ничего особенного – золотистая пятка, а он стоял и плакал, потому что это не просто пятка, а сожаление о потерянных днях. В этот момент Наденька подумала, что когда-нибудь ей тоже будет тридцать четыре года – и что тогда? Станет ли она сожалеть о потерянных днях? Или радоваться, что провела их с человеком, который видел настоящего Рембрандта? И вспоминать, как они вместе бродили по выставочным залам, кафе и кинотеатрам…
У кинотеатра, в закутке между колоннами, лежала большая рыжая дворняга и с упоением грызла кость. Наденька почему-то несколько раз оглянулась на эту дворнягу, подумав, что вот сейчас они выходят из кино, а у колонн лежит рыжая собака. Что в этом необычного? А то, что этот вечер больше не повторится. И когда-нибудь будет так, что не будет этой собаки, а потом их самих не будет. И так происходит буквально каждую минуту – картинка дня стирается и поверх на чистом листе пишется что-то новое. Разве можно это все выразить? Музыкой, цветом, словом?
В общем, Наденька вышла замуж, разочаровав своим выбором и маму, и прочих родственников и знакомых. Как пелось в известной песне, «жених неприглядный такой». А она с первого гонорара в «Северных зорях» купила себе фланелевый халат травянистой зелени с темно-розовыми цветами. Он, может быть, и был атрибутом советского мещанства, но, во-первых, органично вписывался в картину семейной жизни, во-вторых, вовсе не походил на застиранное рубище, в котором обычно из экономии ходила мама.
Еще Наденька поставила на окошко герань и села у этого окошка ждать, когда же наконец грянет ее семейное счастье.
* * *А оно будто и не спешило проклевываться. То есть что-то такое плескалось, но совсем не так представлялось заранее. Поначалу было даже интересно топить печь и готовить эти завтраки-обеды-ужины, не вылезая из халата цвета травянистой зелени, хотя по-настоящему она и не умела готовить, но вот пришлось. Мыть посуду в тазике с нагретой водой было уже совсем неинтересно, однако она и с этим смирилась, потому что это ведь просто быт, пусть даже очень сложный, если не сказать ужасный. «Ты у своей мамочки жила в тепличных условиях, – жестко заявил Вадим. – Я тебе таких создать не могу». И Наденька тут же ощутила легкий укор совести – за то, что она на всем готовом жила, а так ведь быть не должно. Романтика всегда сопряжена со сложностями бытия. Как там звучало определение: «необычный герой в необычных обстоятельствах» – это точно. Вадим отличался от прочих известных ей людей хотя бы собственным мнением, и место было точно необычное: Старая Петуховка с частными огородами, водокачкой, тощими свиньями и грубыми деревенскими нравами была вырезана не только из города, но и вообще из века.
Неподалеку находилась церквушка со старым погостом, и колокол зазывал редких еще прихожан дребезжащим старческим голоском, на который всякий раз ругался отец Вадима, старый коммунист Петр Николаевич, проживавший во флигельке. Семейному счастью он особенно не мешал, пробавлялся самостоятельно на свою пенсию, выпить, правда, любил и в пьяном виде распевал до ночи «Славное море, священный Байкал…». Он гидробиологом был по профессии и некогда изучал водную фауну Байкала. Ну, это сразу после войны, которую Петр Николаевич закончил в Берлине. И по пьянке же рассказывал, как они, бывало, отловят немку и вколят ей в вену молоко или еще какую дрянь, чуть ли не собственную сперму, – у немки температура под сорок. Помрет, так и хрен с ней, а не помрет, так бледные спирохеты погибнут, и никакого тебе сифилиса. А дряни из Германии наши вояки немало привезли вкупе с немецким барахлом. В такие минуты Наденьке становилось по-настоящему страшно, однако Вадим только отшучивался, что не стоит обращать внимания на старого пердуна, тем более коммуняку. Он с именем Сталина на устах когда-нибудь концы отдаст…
И верно: в огромном, до потолка, двустворчатом шкафу с зеркальными дверцами висел сталинский китель Петра Николаевича, в котором он завещал себя похоронить. За жизнь Петр Николаевич слегка усох, поэтому китель был ему явно великоват – Наденька заметила это, когда Петр Николаевич его на свадьбу надел. С другой стороны, если на свадьбе в кителе красоваться можно, почему же в гробу нельзя? Там-то не все ли равно?
Несколько лет назад, как Вадим рассказывал, вызвали отца в обком партии по случаю пятидесятилетия пребывания в рядах КПСС. Петр Николаевич тогда тоже этот китель надел и в обком направился. А там ему в торжественной обстановке вручили килограмм гречки. Когда он дома пакет этой гречки поставил на стол, Вадим заметил, что надо ж было пятьдесят лет делу партии отдать, чтобы заработать гречки один кэгэ. Отец тогда посуровел и молча вышел вон. Через минуту вернулся с топором, занес над головой и жахнул с плеча. Хотел топор просто в стенку вогнать, только попутно, не намеренно же, Вадима по черепу задел, кожу раскроил, в травмпункте потом зашивали. Вадим медикам сказал, что сам себе неосторожно по черепу чиркнул, когда дрова рубил. Шрам, конечно, остался и на бритой голове Вадима рисовался довольно четко. Наденька поначалу боялась к нему прикоснуться, ей все казалось, что Вадиму до сих пор больно, хотя он даже по этому поводу историю присочинил, что это орел спланировал и когтем задел. По куриную душу орел прилетал, а Вадим якобы принялся метлой его выгонять. Огромный орел был, с во-от такими крыльями! Руки у Вадима были коротковаты, поэтому орел получался у него несуразный и крыльями бил по-петушиному.
Однако истории Вадим сочинял действительно здорово. Приятель у него работал на радио, так вот однажды на первое апреля они в эфир сообщение пустили о том, что камни, обнаруженные в почках местных жителей, идеально подходят для нового японского лазера и потому дорого ценятся в Стране восходящего солнца. Ну и звонило местное население несколько дней в редакцию с предложением поменять камешки на деньги.
И еще одна история была, которую Вадим на ночь Наденьке рассказал. Осенью ночи глухие уже стояли, темные, а фонарей на всей Старой Петуховке всего два-три, на въезде и на выезде, прочая же территория освещалась естественно, луной, ежели таковую не затягивали тучи. И вот глядела как раз в окошко страшная темно-желтая луна, от которой никак не спалось, а Вадим еще решил историю рассказать, как он однажды решил к своему дальнему родственнику на заимку съездить, проведать старика Филиппыча, который с женой в деревне жил, пробавляясь дарами леса и собственным хозяйством. Свиней держал, козу… Ну, приехал Вадим к дядьке, а тот смурной сидит, жена, говорит, лихорадкой померла, давай помянем Татьяну Михайловну. Вадим посокрушался, добрая была старуха Татьяна Михайловна, и бутылочку из рюкзака достал. Благо с собой прихватил. А дядька за солониной в погреб спустился. Выпили, закусили, и тут наряд милиции в дверь барабанить стал. Дядька – шасть в окно и деру, только все равно далеко не ушел – повязали. Оказалось, Филиппыч жену из ревности зарубил и в бочку покрошил на солонину. А люди глядят – пропала у Филиппыча жена-то, а ему хоть бы что. Померла, говорит. Дак а где могилка-то? В общем, так вышло, что собственную тетку съел Вадим…
– Как это тетку съел? – Наденька ни жива ни мертва лежала и не представляла даже, что ей делать. Выбраться из постели и сбежать от людоеда к маме? Но ведь на улице так темно! Только страшная темно-желтая луна освещала Петуховку, затекая в просвет штор и дальше, в приоткрытую дверцу огромного шкафа, в котором висел сталинский китель Петра Николаевича…
– Глупая! Ты и поверила? – рассмеялся Вадим. – Да это же просто сказка такая на ночь. Не бойся, я же добрый. А ты слишком легковерная, Наденька, нельзя же так!
– А про себя напраслину такую городить разве можно? – сквозь слезы пролепетала Наденька.
– Да врать я не умею, а вот фантазировать люблю. Фантазия дает человеку свободу. Знаешь, рассказик есть такой у Чехова, кажется. Померла у почтмейстера молодая жена, сидит он за поминальным столом и рассказывает гостям, что пуще всего любил ее за абсолютную верность. А гости недоверчиво так переглядываются, мол, знаем мы эту верность. Тогда почтмейстер признался, что сам же распространил по городу нехороший слух. Намеренно говорил каждому, что жена его Алена сожительствует с полицмейстером Залихватским. И всякий сразу же понимал, что на Алену и заглядываться не стоит – полицмейстер пять протоколов составит, и беды не оберешься. И гости в результате очень разочарованы были…
Смысл отсылки к классику Наденька поняла только на следующее утро, по пути в школу, когда, невыспавшаяся, чапала в резиновых сапогах по петуховской грязюке. Это что же, Вадим намеренно себя чудовищем выставляет, чтобы никто на нее, Наденьку, видов не имел? Какую же свободу дает ему эта его фантазия? И вообще, разве кто позарится на школьную учительницу русского языка с оттопыренными ушами да еще в резиновых сапогах? Новые сапожки-то до заморозков не надеть! Наденька каждое утро придирчиво рассматривала себя в зеркале огромного шкафа. Худенькая девочка в зеркале больше походила на старшеклассницу, чем на учительницу, несмотря на накрашенные глаза и перманентную завивку, которую пришлось сделать еще из практических соображений, чтобы не так часто мыть голову. В тазике волосы промывались плохо, да и споласкивать их воды не напасешься.
Нет, если разобраться, с Вадимом было нескучно. Только вот курил он много, с самого утра и до самой ночи. И засыпал с сигаретой, и вставал – тут же за сигаретой тянулся. Наденьке это было неприятно, и даже в школе ей стали замечания делать, что не следует педагогу так много курить – тянуло от нее за версту табаком, как от грузчика. От волос тянуло и от одежды, которая теперь висела в огромном шкафу с зеркальными дверцами рядом со сталинским кителем. И жаловалась она Вадиму, а тот отвечал, что он уже сформировался как личность, как там в учебниках пишут, и от привычек своих отказываться не собирается.