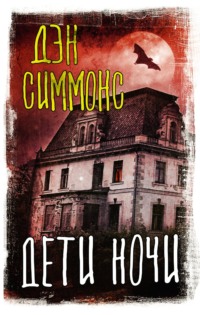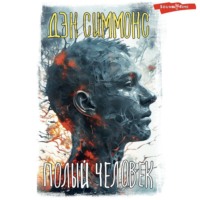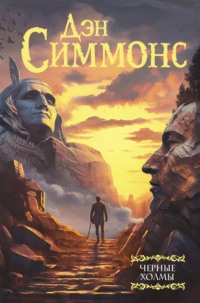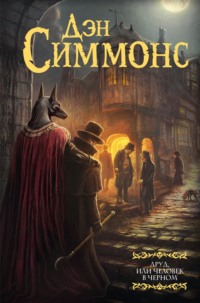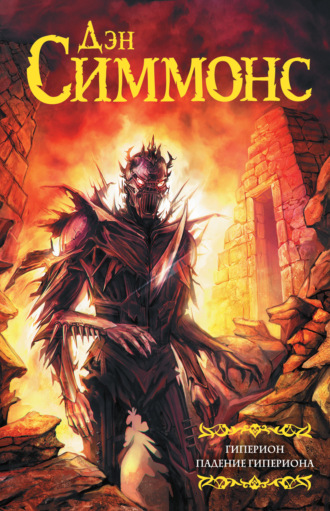
Полная версия
Гиперион. Падение Гипериона
– Так, чья теперь очередь рассказывать?
– Моя, – ответил Мартин Силен. Поэт начал пить еще с утра, но, как и Консул, говорил вполне складно. Его выдавали лишь яркий румянец да маниакальный блеск в глазах. – По крайней мере бумажку с номером «три» вытянул именно я. – Поэт продемонстрировал присутствующим клочок бумаги. – Ну как, вы еще не раздумали слушать эту херню?
Ламия Брон подняла стакан с вином, потом нахмурилась и поставила его на стол.
– По-моему, стоит сначала обсудить то, что мы уже слышали, и решить, какое отношение эти истории имеют к нашему… делу.
– Рано, – возразил ей полковник. – Информации пока маловато.
– Пусть господин Силен начнет, – предложил Сол Вайнтрауб, – а там по ходу дела и обсудим.
– Я – за, – присоединился к нему священник. Хет Мастин и Консул молча кивнули.
– Прелестно! – возопил Мартин Силен. – Итак, я приступаю! Позвольте мне только допить это сраное вино.
История поэта:
Песни Гипериона
В начале было Слово. Слово стало текстом, и появился сраный текст-процессор. Затем – ментопроцессор. После чего литература приказала долго жить. Вот так-то.
Фрэнсис Бэкон однажды сказал: «Плохое и нелепое установление слов удивительным образом осаждает разум». Мы все участвуем в этом деле и удивительным образом осаждаем разум, не правда ли? Я же преуспел побольше прочих. Один из лучших писателей двадцатого века, ныне совершенно забытый (подчеркиваю, лучший и забытый), однажды остроумно заметил: «Мне нравится быть писателем. Но чего я не выношу, так это писанины».[16] Поняли? Итак, синьоры и синьорита, мне нравится быть поэтом. Но чего я, черт возьми, не выношу, так это слов.
С чего же мне начать? Может быть, с Гипериона? (Затемнение) Почти два стандартных века тому назад.
Пять «ковчегов» Печального Короля Билли, словно золотые одуванчики, кружат в этом прекрасно знакомом всем нам лазурном небе. Мы высаживаемся и, как подобает настоящим конкистадорам, гордо топаем по планете. Нас было более двух тысяч: видеохудожники, писатели, скульпторы, поэты, паректоры, клипмейкеры, тривиссеры, композиторы, декомпозиторы и бог знает кто еще, а также целый штат (по пять на нос) администраторов, техников, экологов, инспекторов, придворных и профессиональных жополизов, не говоря уж о самих коронованных задницах, то бишь августейшем семействе, обслуга которого была еще в десять раз больше нашей – хренова туча андроидов, жаждущих немедленно возделывать землю, шуровать в ядерных топках, возводить города и таскать тяжести… ну, черт возьми, вы меня понимаете.
Мир, в котором мы высадились, был уже заселен какими-то козлами, которые еще за два века до нас окончательно одичали и теперь сосали лапу и при первом удобном случае вышибали друг дружке остатки мозгов.
Естественно, что сии благородные потомки славных пионеров приветствовали нас как богов, особенно после того, как орлы из нашей охраны превратили в головешки несколько самых крутых ихних вождей. А мы, естественно, приняли их поклонение как должное и отправили сих аборигенов вместе с нашими синежопыми распахивать южную сороковую и возводить Блистающий Град на Холме.
О, то был поистине Град Блистающий! Сейчас, разглядывая руины, вы едва ли сможете вообразить его во всей красе. За три века его затопили пески, тянувшиеся от самых гор акведуки обвалились… От города остался лишь скелет. Но в пору своего расцвета Град Поэтов был воистину прекрасен: дух сократовских Афин плюс интеллектуальный подъем Венеции эпохи Возрождения, плюс артистическая лихорадка Парижа времен импрессионистов, плюс подлинная демократия первых десятилетий Орбит-сити и безграничные перспективы ТК-Центра…
Под конец, правда, от этого ничего не осталось. Только вызывающий клаустрофобию чертог Хродгара, за порогом которого во тьме поджидало чудовище. Разумеется, у нас был свой Грендель. У нас был даже Хродгар (за такового вполне мог сойти сам Печальный Король Билли с его безвольным профилем). Не хватало только гаутов: безмозглого амбала Беовульфа и его придурковатой шайки. Итак, за неимением Героя мы смирились с ролью жертв: сочиняли сонеты, репетировали балеты и копались в пергаментных свитках, а наш утыканный железными шипами Грендель тем временем сеял по ночам страх и собирал урожай хрящей и сахарных косточек.
А я – сатир душой, ставший тогда сатиром во плоти, – после пятисотлетнего упорного просиживания штанов завершал наконец труд всей своей жизни, мои «Песни». (Снова затемнение)
Мне кажется, историю Гренделя рассказывать пока не время. Актеры еще не успели занять свои места на сцене. Нелинейное построение сюжета и дискретное повествование имеют приверженцев, и отнюдь не последний среди них – я сам, но в конце концов, друзья мои, шанс на бессмертие этим тонким страницам дает, или, наоборот, отнимает, именно литературный герой. Сознайтесь, разве не случалось вам хоть раз подумать, что Гек Финн и Джим действительно существуют и в этот самый момент действительно толкают шестами свой плот по какой-то неведомой реке, куда более реальные, чем, допустим, продавец обуви, у которого вы невесть когда купили ботинки? Ладно, раз уж я взялся рассказывать эту идиотскую историю, следует для начала объяснить, кто есть кто. А поскольку эта заноза сидит в моей заднице, я дам задний ход и начну с самого начала.
В начале было Слово. И Слово было запрограммировано классическим двоичным кодом. И Слово гласило: «Да будет жизнь!» И вот однажды в поместье моей матушки из бункера Техно-Центра была извлечена замороженная сперма моего давно почившего батюшки. Ее разморозили, развели какой-то фигней и как следует взбили – в добрые старые времена так взбивали ванильный солод. Потом этой смесью зарядили струйный шприц, имеющий форму дамского любимца. Магическое нажатие спускового крючка – и папашины сперматозоиды устремились куда положено. В ту ночь стояла полная луна, и матушкина яйцеклетка была, что называется, в полном соку.
Конечно, никто не заставлял мамулю беременеть таким варварским способом. Ведь можно было вырастить меня, что называется, в пробирке или хотя бы пересадить папашину ДНК любовнику. А есть еще клонирование, генозамещенный партеногенез… Однако мамаша (по ее собственному выражению) предпочла раздвинуть ноги навстречу традиции. Подозреваю, что ей нравился сам процесс.
Как бы то ни было, я родился. Я родился на Земле… на СТАРОЙ Земле… хоть эта сучка Ламия и не верит мне. Мы жили в поместье моей матери на острове близ берегов Северо-Американского Заповедника.
Наш дом на Старой Земле (набросок)
Нежно-фиолетовые сумерки розовеют и плавно перетекают в малиновый рассвет. Силуэты деревьев у юго-западного края лужайки кажутся вырезанными из папиросной бумаги. Небосвод из полупрозрачного фарфора не пятнает ни единое облачко, ни единый инверсионный след. Предрассветная тишина… Такая тишина бывает в зале за секунду до того, как оркестр грянет увертюру. И, как удар литавр, восход Солнца. Оранжевые и бежевые тона вдруг вспыхивают золотом, а затем медленно остывают, расцветая всеми оттенками зеленого: тени листьев, полумрак под деревьями, кроны кипарисов и плакучих ив, тускло-зеленый бархат прогалин.
Поместье матери – наше поместье – занимало около тысячи акров. А вокруг него простиралась равнина, в миллион раз большая. Лужайки размером с небольшую прерию, покрытые нежнейшей травкой, чье мягкое совершенство так и манило прилечь и вздремнуть. Величественные, раскидистые деревья – солнечные часы Земли. Их тени синхронно поворачиваются: слитые воедино, они затем разделяются и сокращаются, отмечая наступление полудня, и, наконец, на закате дня вытягиваются на восток.
Королевский дуб. Гигантские вязы. Тополя. Кипарисы. Секвойи. Бонсай. Стволы баньяна тянутся ввысь, подобно колоннам храма, крыша которого – небо. Вдоль каналов и причудливо извивающихся ручьев выстроились ивы, ветви которых поют древнюю погребальную песнь.
Наш дом стоит на невысоком травянистом холме. Зимой трава рыжеет, и склоны холма напоминают округлые бока самки какого-то громадного зверя, сжавшейся в комок перед прыжком.
Видно, что дом достраивался веками. Нефритовая башня на восточном дворе ловит первые лучи восходящего солнца, а в послеполуденный час череда зубцов на южном крыле отбрасывает треугольные тени на хрустальную оранжерею. Восточное крыло, опутанное целым лабиринтом балкончиков и наружных лестниц, благодаря игре света и теней кажется сошедшим с гравюр Эшера.
Это было уже после Большой Ошибки, но еще до того, как Земля стала необитаемой. Обычно мы наезжали в поместье, когда наступала «ремиссия» – этим расплывчатым термином обозначали непродолжительные (от десяти до восемнадцати месяцев) периоды затишья между планетарными спазмами. В это время черная минидыра, которую Киевская Группа засадила в самый центр Земли, как бы переваривала содержимое своей утробы в предвкушении очередного пиршества. А когда опять наступал «период активности», мы отправлялись «к дяде Кове», то бишь на расположенный за орбитой Луны терраформированный астероид, который отбуксировали туда еще до исхода Бродяг.
Вы, конечно же, скажете – вот счастливчик. Родился с серебряной ложкой в жопе. Я не собираюсь оправдываться. После трех тысяч лет игры в демократию уцелевшая аристократия Старой Земли пришла к выводу, что единственный способ избавиться от всякой швали – не давать ей размножаться. Точнее, финансировать строительство флотилий «ковчегов», исследовательские экспедиции спин-звездолетов, заселение других планет с помощью нуль-Т и так далее. Вот почему Хиджра проходила в такой панической спешке. Пусть они уматывают к черту на кулички, плодятся там сколько их душеньке угодно и оставят Землю в покое! Тот факт, что матушка-Земля подыхала, как старая больная сука, вовсе не лишал этих подонков страсти к первооткрывательству. Как же, нашли дурачков!
Подобно Будде я впервые увидел обличье нищеты уже будучи почти взрослым. По достижении шестнадцати стандартных лет я, как и положено, отправился побродить по свету и, путешествуя по Индии, встретил настоящего попрошайку. Потом я узнал, что индуисты сохраняли институт нищенства по религиозным мотивам, но в тот момент я видел перед собой человека в лохмотьях, изможденного, с выпирающими ребрами, который протягивал мне плетеную корзинку с древним кредит-дисководом, предполагая, очевидно, что я вставлю туда свою универсальную карточку. Друзья решили, что у меня истерика. Меня вырвало. Случилось это в Бенаресе.
С детства мне пришлось подчиняться всяческим условностям, но, как ни странно, вспоминаю его я без отвращения. Скажем, от знаменитых приемов гранд-дамы Сибиллы (она приходилась мне двоюродной бабушкой по матери) у меня остались приятнейшие воспоминания. Припоминаю один такой трехдневный прием на Манхэттенском архипелаге. «Челноки» доставляют все новых и новых гостей – из Орбит-сити, из Европейских куполов. Громада Эмпайр-Стейтс-Билдинг возвышается над водной гладью, ее огни отражаются в лагунах и каналах, заросших папоротником; на смотровую площадку небоскреба садятся магнитопланы, из них выходят пассажиры… а на крышах соседних зданий (они похожи на острова-переростки) дымятся жаровни…
Северо-Американский Заповедник служил нам чем-то вроде площадки для игр. По слухам, на этом таинственном континенте проживало около восьми тысяч человек, но половину из них составляли лесничие. Среди остальных были инженеры-экологи, палеореконструкторы-нелегалы, которые усердно воскрешали допотопную флору и фауну, дипломированные первобытные племена вроде Сиу Огалалла или Гильдии Падших Ангелов и случайные туристы. Про одного из моих кузенов рассказывали, что он бродил в Заповеднике от одного контролируемого участка к другому, но, разумеется, на Среднем Западе, где эти участки идут сплошняком, а потому риск напороться на стадо динозавров невелик.
В течение первого столетия после Большой Ошибки смертельно раненная Гея умирала, но пока еще медленно. Большие разрушения происходили только в «активные» периоды. Однако эти спазмы становились, как и было предсказано, все чаще, ремиссии – все короче, а последствия каждого очередного приступа – все страшнее. Тем не менее Земля еще держалась и, как могла, зализывала свои раны.
Заповедник, как я уже говорил, служил нам площадкой для игр, хотя на самом деле таковой была вся наша умирающая планета. В семилетнем возрасте я получил от матушки в полное распоряжение магнитоплан и теперь всего за час мог попасть в любую точку земного шара. Поместье, где жил мой лучший друг, Амальфи Шварц, располагалось у горы Эребус, на территории бывшей Антарктической Республики. Мы встречались каждый день. То обстоятельство, что законы Старой Земли запрещали нуль-Т, беспокоило нас меньше всего. Лежа ночью на склоне какого-нибудь холма, мы смотрели вверх. Перед нашими глазами сияли все десять тысяч Орбитальных Огней и двадцать тысяч сигнальных огней Кольца, а за ними – не то две, не то три тысячи видимых невооруженным глазом звезд. Но мы не испытывали ни зависти, ни желания присоединиться к Хиджре, которая уже тогда плела из нитей нуль-каналов Великую Сеть. Мы были просто счастливы.
Мои воспоминания о матери до странности литературны, словно она не живой человек, а персонаж одного из моих романов об Умирающей Земле. Возможно, так оно и было. А может, я сам был воспитан роботами в одном из Европейских куполов, или вскормлен молоком андроидов в Амазонской Пустыне, или меня просто вырастили в чане, как дрожжи. Как бы то ни было, я вспоминаю мать именно такой, не слишком реальной. Вот она идет, словно привидение, в белом ниспадающем наряде по темным анфиладам нашего дома. А вот мы сидим в оранжерее. Алый свет играет на бесчисленных пылинках, парящих в воздухе. Мать разливает чай. Тонкие пальцы… Тонкие синие прожилки вен на тыльной стороне ладони… Блики свечей в ее волосах, как золотые мушки в паутине… Волосы, разумеется, собраны в узел, как и полагается гранд-даме. Иногда во сне я вспоминаю ее голос. Я слышу, как она что-то напевает или говорит, и у меня рождается странное чувство, что все это происходило еще до моего рождения, но когда я просыпаюсь, оказывается, что это ветер шелестит кружевными шторами или какое-то чужое море с шумом бьется о камни.
Впервые ощутив свое «Эго», я сразу понял, что стану – должен стать – именно поэтом. Я чувствовал, что у меня просто нет выбора. Видимо, красота умирающего мира коснулась меня своим последним дыханием, и с тех пор я был обречен до конца дней своих играть словами, искупая грехи человечества, бездумно разрушившего свою колыбель. И вот в результате всей этой чертовщины я стал поэтом.
Гувернера моего звали Бальтазаром. И был он не андроид, а человек, причем весьма преклонных лет, беженец из пропахшей потом древней Александрии. В свое время он поульсенизировался по какой-то варварской допотопной методике, вследствие чего весь светился бело-голубым огнем и напоминал залитую в пластик переоблученную мумию. Но при этом был похотлив, как козел. Несколько веков спустя, когда и я переживал сатириаз, мне стали наконец понятны эти приапические импульсы, управлявшие бедным доном Бальтазаром, но тогда они воспринимались просто как досадная помеха, вследствие коей в дом нельзя было нанять хорошенькую горничную. Впрочем, дон Бальтазар не брезговал и служанками-андроидами. Он трахал всех подряд.
К счастью для меня, в пристрастии дона Бальтазара к юной плоти не было ничего гомосексуального. О страстях, обуревавших его, я догадывался лишь по косвенным признакам. Иногда он вовсе не являлся на урок, а в другой раз с необычным рвением заставлял меня заучивать наизусть Овидия, Сенеша или By.
Но воспитателем он был превосходным. Мы изучали античность и позднюю классику, совершали экскурсии на руины Афин, Рима, Лондона и Ганнибала (штат Миссури), прекрасно обходясь без экзаменов и тестов. Дон Бальтазар утверждал, что я все схватываю на лету, и я оправдывал его ожидания. Он убедил мою мать, что для меня, отпрыска Старой Семьи, так называемое прогрессивное образование совершенно не подходит. А потому мне удалось избежать всех прелестей прямой накачки знаний посредством трансплантации РНК, инфосферной суггестопедии, форсированной загрузки подсознания, группового мультитренинга, «металогической пропедевтики» или доязыкового программирования. И как результат всех этих лишений в шесть лет я уже знал наизусть «Одиссею» в переводе Фицджеральда, сочинял секстины в том возрасте, когда не мог даже самостоятельно одеться, и разбирался в спирально-контрапунктной версификации, не зная, как подключаться к искусственному интеллекту.
С другой стороны, мое образование вряд ли можно было назвать фундаментальным. Дон Бальтазар мало интересовался (по его собственному выражению) «механической стороной нашего мира». Двадцати двух лет от роду я впервые осознал, что компьютеры, домашние роботы и система жизнеобеспечения на астероиде «Дяди Ковы» являются отнюдь не доброжелательными воплощениями какой-то духовной субстанции, а просто-напросто машинами. Я верил в фей, эльфов, нумерологию и астрологию. Я верил, что в ночь на Ивана Купала в глубине древних лесов Северо-Американского Заповедника совершаются всякие чудеса. Подобно Китсу и Лэму[17] в студии Хейдона, мы с доном Бальтазаром не раз поднимали тосты «за погибель математики» и скорбели о том, что сэр Исаак Ньютон разрушил поэзию радуги своей непотребной призмой. Воспитанное с детства недоверие ко всему отдающему уравнениями и лабораторией переросло со временем в настоящую ненависть и сослужило мне в дальнейшем хорошую службу. Я усвоил, что даже в нашем посттехнократическом мире не так уж трудно оставаться язычником, который понятия не имеет, что Земля вращается вокруг Солнца.
Мои ранние стихи были отвратительны. Как и большинство плохих поэтов, я этого не сознавал, надменно полагая, что сам творческий акт заведомо наделяет определенными достоинствами тех недостойных ублюдков, которых я тогда плодил. Матушка закрывала на это глаза, хоть я и загадил весь дом вонючими кучками рифмованного дерьма. Своему единственному дитяте, беспечно резвящемуся, словно дикая лама, она прощала любые сумасбродства. Дон Бальтазар никогда не комментировал мои творения. Главным образом, видимо, потому, что я их никогда ему не показывал. Дон Бальтазар полагал, что достопочтенный Дейтон – жулик, что Салмаду Брюи и Роберту Фросту следовало бы повеситься на собственных кишках, что Вордсворт – просто идиот, а все менее совершенное, чем сонеты Шекспира, является надругательством над языком. А потому я не считал нужным беспокоить дона Бальтазара и совать ему свои стихи, которые, как я прекрасно знал, ну просто изобилуют свидетельствами моей гениальности.
Кое-что из этого говна я напечатал в дискет-журналах, вошедших тогда в моду в Европейском Мегаполисе. Дилетанты, издававшие эти недоделанные журнальчики, были столь же снисходительны к моей матери, как и она ко мне. Время от времени я теребил Амальфи или еще кого-нибудь из своих приятелей: просил их загрузить мои стихи в инфосферу Кольца или Марса, чтобы выйти таким образом на аудиторию разраставшихся колоний (сам я, по причине аристократической блажи, так и не получил доступа к мультилинии). Никто не откликнулся. Я считал, что они там слишком заняты.
Итак, не пройдя жестокого испытания печатным станком, я уже верил, что являюсь поэтом. Вера моя была так же наивна и невинна, как детская вера в бессмертие… а крушение ее – столь же болезненно.
Матушка погибла вместе со Старой Землей. Около половины Старых Семей отказались покинуть планету, когда началась агония. Мне было двадцать, и я горел романтической мечтой погибнуть вместе с родным миром. Матушка, однако, решила иначе. Причем волновало ее отнюдь не то, что я погибну во цвете лет, – как и я, она была слишком эгоцентрична и в такое время, конечно же, не могла думать о других. И даже не то ее беспокоило, что вместе с моей ДНК угаснет наш древний род, предки которого прибыли в Новый Свет на борту легендарного «Мейфлауэра».[18] Она, видите ли, переживала, что наша семья погибнет, не уплатив по счетам. Последние сто лет мы вели весьма экстравагантный образ жизни, а деньги на это брались в долг в Кольцевом Банке и других внеземных заведениях, которые всегда держали ухо востро. И теперь, когда континенты Земли рушились от тектонических ударов, леса горели, океаны кипели, превращаясь в некое подобие супа, а раскаленный воздух стал столь густым, что дышать им было уже невозможно (хотя пахать его – еще рановато), банки, естественно, потребовали деньги назад. Так что матушке было не до меня.
Хотя нет, известные планы на мой счет у нее были. За несколько недель до всепланетного списания долгов она обратила все, что могла, в деньги и положила четверть миллиона марок на долгосрочные счета в Кольцевом Банке, который тогда эвакуировался. Меня же отправила в Протекторат Рифкина на Небесных Вратах – крохотном мирке в системе Веги-Прим. Уже тогда эта пакостная планета имела стационарный нуль-канал на Солнечную систему, но я отправился не по нуль-Т. И даже не на спин-звездолете с двигателем Хоукинга, который ходил на Небесные Врата один раз в стандартный год. Нет, матушка отправила меня в это захолустье в замороженном виде, на каком-то прямоточном грузовике третьей серии – субсветовом!!! Помимо моей персоны, в холодильниках находились контейнеры с коровьими эмбрионами, кормовыми вирусными культурами и апельсиновым концентратом, и летели мы сто двадцать девять лет по бортовому времени, а по стандартному исчислению сто шестьдесят семь лет!
Матушка надеялась, что процентов по долгосрочным вкладам хватит, чтобы расплатиться с долгами и чтобы я какое-то время мог пожить в свое удовольствие. Первый и последний раз в жизни она просчиталась.
Небесные Врата (набросок)
Узкие грязные улочки разбегаются от портовых пакгаузов, как язвы по спине прокаженного. С неба, похожего на прогнивший джутовый мешок, лохмотьями свисают желто-коричневые облака. Мешанина бесформенных деревянных лачуг – их еще и достроить не успели, а они уже разваливаются, слепо таращась друг на дружку провалами окон. Туземцы, плодящиеся, как… пожалуй, все же, как люди… безглазые калеки, выхаркивавшие свои легкие и нарожавшие по десятку отпрысков. К пяти годам эти «цветы жизни» уже сплошь покрыты коростой, от едких испарений (которые годам к сорока доконают их) у них непрерывно слезятся глаза, зубы сгнили, сальные волосы аж шевелятся от вшей и раздувшихся клещей-вампиров. Гордые родители не нарадуются. И вся эта шелупонь в количестве двадцати миллионов ютится в переполненных трущобах на пятачке размером не больше западной лужайки нашего поместья. Воздух на Вратах такой, что дохнешь разок-другой – и копыта откинешь, вот каждый и норовит отпихнуть соседа и пролезть поближе к центру стодвадцатимильного круга с пригодной для дыхания атмосферой, созданного непрерывно работавшей Аэростанцией. Но сейчас и она начала сбиваться с ритма.
Небесные Врата, мой новый дом.
Матушка как-то не подумала, что счета Старой Земли могут заморозить, а потом попросту списать на нужды бездонной экономики Великой Сети. Забыла она и о том, что долговременный криогенный сон вызывает необратимые повреждения мозга с вероятностью одна шестая (в отличие от нескольких недель или месяцев фуги; поэтому-то лишь с изобретением привода Хоукинга люди смогли исследовать спиральный рукав Галактики). Мне повезло. Когда меня вытащили на Небесных Вратах из холодильника, я отделался всего лишь инсультом. Работу мне дали соответствующую – копать канавы для стока кислотных дождей вокруг периметра. Физически я быстро освоился и вскоре уже мог по нескольку недель не вылезать из грязеотстойников. А вот с умственными способностями дела обстояли куда хуже.
Левое полушарие моего мозга оказалось отключенным – совсем как поврежденная секция спин-звездолета, которую перекрыли воздухонепроницаемыми переборками, отдав обреченные отсеки во власть пустоты. Способность мыслить я все же сохранил, вскоре восстановилась и подвижность правой стороны тела. Но речевые центры были повреждены настолько, что их не удалось починить обычными методами. Чудесный органический компьютер, встроенный в мою черепушку, стер свое языковое содержимое, как запорченную программу. В правом полушарии кое-что сохранилось, но, поскольку оно отвечало за восприятие, там удержались лишь наиболее эмоционально заряженные лексические единицы. Таким образом, мой словарный запас уменьшился до девяти слов. (Как я узнал впоследствии, это был исключительный случай. Обычно человек с моим диагнозом сохранял два-три слова.) Из чисто познавательных соображений я приведу свой тогдашний лексикон: драть, срать, ссать, бля, черт, мудак, жопа, пи-пи и ка-ка.
Даже беглого взгляда на этот список достаточно, чтобы уяснить его громадные возможности. В моем распоряжении было пять глаголов, обозначавших три различных действия и способных благодаря интонационным добавкам передавать модальность, и четыре существительных. Два существительных могли служить междометиями. Моя новая языковая вселенная включала пять односложных слов, два составных и два детских повтора. Смысловое поле было, конечно, не слишком велико: четыре обозначения естественных отправлений, ссылка на человеческую анатомию, теологическое понятие, парочка универсальных определений, позволяющих охарактеризовать физические, душевные, моральные и сексуальные качества собеседника, как своего, так и противоположного пола, и, конечно, термин для описания интимной близости как таковой.