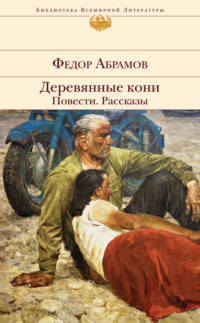Полная версия
Вокруг да около (сборник)
– Ну, тогда с золотыми полосками. Так?
Против этого Алька возражать не стала.
– Вишь ведь, вишь ведь, – опять зацокала языком Маня-большая, – кровь в ей ходит! А колобашки-то! Колобашки-то! Колом не прошибешь!
– Хватит, хватит, Архиповна. Я отродясь таких речей не люблю.
– И я не люблю, – подала свой голос Маня-маленькая. – У ей все срам на языке. Я тоже девушка.
Тут Алька от смеха повалилась грудью на стол. А у Мани-большой так и запылал левый глаз зеленым угарным огнем – верная примета, что где-то уже подзаправилась.
И поэтому Анисья, не дожидаясь самовара, вынесла закуску – звено докрасна зажаренной трески, поставила на стол четвертинку – поскорее бы только выпроводить такую гостью.
– Пейте, кушайте, гости дорогие.
– Тетка сегодня именинница, – сказала Алька, вытирая слезы.
– Разве? – У Мани-большой от удивления оттянулась нижняя губа. – А чего это брата с невесткой нету?
– Не могут, – ответила Анисья. – Прокопьевна на пекарне ухлопалась – ни ногой, ни рукой пошевелить не может. А сам известно какой – к кровати прирос.
Маня-большая ухмыльнулась.
– Матреха, – закричала она на ухо своей глуховатой подружке, – мы кого сичас видели?
– Где?
– У Прошичей на задворках.
– О-о! Нуто те – Павел Захарович с женой. В гости направились. У Павла сапоги свиркают – при мне о третьем годе покупал, и сама на каблучках, по-городскому… Богатые…
Больше полугода готовилась Анисья к этому празднику. Все, какие деньги заводились за это время, складывала под замок. Сама, можно сказать, на одном чаю сидела. А стол справила – пальцев не хватит на руках все перемены сосчитать.
Три рыбы: щука свежая, речная, хариусы – по фунту каждый, семга; три каши, три киселя; да мясо жирное, да мясо постное – нельзя Павлу жирного есть; да консервы тройные.
И вот сердце загорелось – все выставила. Нате, лопайте! Пускай самые распоследние гости стравят, раз свои побрезговали. Правда, звено красной – три дня мытарила за него на огороде у Игнашки-денежки – она сперва не вынесла. А потом, когда опоясала с горя второй стакан, и семгу бросила на потраву…
Не стесняясь чужих людей, она безутешно плакала, как малый ребенок, потом вскакивала, начинала лихо отплясывать под разнобойное прихлопыванье старушечьих рук, потом опять хваталась за вино и еще пуще рыдала…
Маня-большая, как кавалер, лапала раскрасневшуюся Альку. Та со смехом отпихивала ее от себя, била по рукам и под конец пересела к Мане-маленькой, которая низким, утробным голосом выводила свою любимую «Как в саду при долине…».
Вдруг Анисье показалось – в руках у Альки рюмка.
– Алька, Алька, не смей!
– Тетка, мы траву спрыскиваем. Я траву у Мани-маленькой торгую.
– Траву? – удивилась Анисья. И махнула рукой: а, лешак с вами! Мне-то что.
– Да я не обманываю, Онисья, – с обидой в голосе заговорила Маня-маленькая. – Когда я обманывала? У меня трава-то чистый шелк.
Алька начала трясти ее темную пудовую руку. К ним потянулась Маня-большая.
– Ну-ко, я колону. Может, и мне маленько отколется. Отколется, Матреха?
– Куда от тебя денешься? Выманишь…
Маня-большая, довольная, подмигивая, закурила, а Маня-маленькая опять зарокотала:
– Травка-то у меня хорошая, девка. Надо бы до осени подождать. В травке-то у меня котанушки любят гулять…
– Да твоим котанушкам по выкошенному-то огороду еще лучше гулять, – сказала Алька.
– Нет, не лучше. Травки-то им надо. Они из травки-то птичек выглядывают…
Маня-маленькая тяжко покачала головой и, обливаясь горючими слезами, затрубила на всю избу:
На мою на могилку,Знать, никто не придет.Только раннею весноюСоловей пропоет…Ее стала утешать Маня-большая:
– Давай дак не стони. Расстоналась… Вон к Ониске и брат родной не зашел… В рожденье…
– Не трожь моего брата! – Тут к Анисье сразу вернулись трезвость. Она изо всей силы стукнула кулаком по столу, так, что посуда зазвенела. – Знаю тебя. Хочешь клин меж нас вбить. Не бывать этому!
– Алевтинка! Чего это она! Какая вожжа под хвост попала?
– А ну вас! – рассердилась Алька. – Натрескались. Одна белугой воет, другая чашки бьет.
Окончательно пришла в себя Анисья несколько позже, когда в избу вломились празднично разодетые девки в сопровождении трех военных.
Тот, у которого на плечах были золотые полоски, быстрыми блестящими глазами обежал избу, воскликнул, подмигивая Мане-большой (за хозяйку принял):
– Гуляем, тетушки?
– Маленько, товарищ… Старухи пенсионерки… – Маня-большая икнула для солидности. – Советская власть… Крепи оборону… Правильно говорю, товарищ?
– Уполне, – в тон ей ответил офицер, затем стал со всеми здороваться за руку.
– По-нашему, товарищ, – одобрила его Маня-большая и, повернувшись к Анисье, круто распорядилась: – А ты чего глаза вылупила? Не знаешь, как гостей принимают?
Место им досталось неважное – с краю, у комода, и не на стульях с мягкой спиночкой, а на доске-скрипучей полатнице, положенной на две табуретки.
Но Пелагея и этому месту была рада. Это раньше, лет десять – двенадцать назад, она бы сказала: нет, нет, Петр Иванович! Не задвигай меня на задворки. На задворках-то я и дома у себя насижусь. А я хочу к оконышку поближе, к свету, чтобы ручьем в оба уха умные речи текли. Да лет десять – двенадцать назад и напоминать бы не пришлось хозяину – сам стал бы упрашивать. А она бы еще так и покуражилась маленько.
Но ведь то десять-двенадцать лет назад! Павел тогда бригадир, самой ей в рот каждый смотрит – не перепадет ли буханка лишняя. А теперь незачем смотреть, теперь в магазинах хлеб не выводится. А ведь какова цена хлебу – такова и пекарихе. На что же тут обижаться?
Спасибо и на том, что вспомнил их Петр Иванович.
Когда от Петра Ивановича прибежал мальчик с записочкой, они с Павлом уже ложились спать. Но записочка («Ждем дорогих гостей») сразу все изменила.
Петр Иванович худых гостей не позовет, не такой он человек, чтобы всякого вином поить. Перво-наперво будут головки: председатель сельсовета да председатель колхоза, потом будет председатель сельпо с бухгалтером, потом начальник лесопункта – этот на особицу, сын Петра Ивановича у него служит.
Потом пойдет народ помельче: пилорама, машина грузовая, Антоха-конюх, но и без них, без шаромыг, шагу не ступишь. Надо, скажем, дом перекрыть – походишь, покланяешься Аркашке-пилорамщику. А конюха взять. Кажись, теперь, в машинное время, и человека бесполезнее его нету. А нет, шофер шофером, а конюх конюхом. Придет зима да прижмет с дровами, с сеном – не Антохой, Антоном Павловичем назовешь.
Антониду с Сергеем, детей Петра Ивановича, они за столом уже не застали: люди молодые – чего им томиться в праздник в духоте?
Хозяйка, Марья Епимаховна, потащила было Пелагею на усадьбу – летнюю кухню показывать, – да она замотала головой: потом, потом, Марья Епимаховна. Ты дай мне сперва на людей-то хороших досыта насмотреться да скатерть-самобранку разглядеть.
Стол ломился от вина и яств. Петр Иванович все рассчитал, все усмотрел. Жена директора школы белого не пьет – пожалуйте шампанского, Роза Митревна. Лет десять, наверно, а то и больше темная бутылка с серебряным горлышком пылилась в лавке на полке – никто не брал, а вот пригодилась: спотешила себя Роза Митревна, обмочила губочки крашеные…
Петр Иванович всю жизнь был для Пелагеи загадкой.
Грамоты большой нету, три зимы в школу ходил, должности тоже не выпало – всю жизнь на ревизиях: то колхоз учитывает, то сельпо проверяет, то орс, а ежели разобраться, так первый человек на деревне. Не обойдешь!
И руки мягкие, век топора не держали, а зажмут – не вывернешься.
В сорок седьмом году, когда Пелагея первый год на пекарне работала, задал ей науку Петр Иванович. Пять тысяч без мала насчитал. Пять тысяч! Не пятьсот рублей.
И Павел тогда считал-считал, до дыр бумаги вертел – с грамотой мужик, и бухгалтерша считала-пересчитывала, а Петр Иванович как начнет на счетах откладывать, не хватает пяти тысяч, и все. Наконец Пелагея, не будь дурой, бух ему в ноги: выручи, Петр Иванович! Не виновата. И сама буду век Бога за тебя молить, и детям накажу. «Ладно, говорит, Пелагея, выручу. Не виновата ты – точно. Да я, говорит, не для тебя это и сделал. Я, говорит, той бухгалтерше урок преподал. Чтобы хвост по молодости не подымала». И как сказал – так и сделал.
Нашлись пять тысяч. Вот какой человек Петр Иванович!
Самым важным, гвоздевым гостем сегодня у Петра Ивановича был Григорий Васильевич, директор школы.
Его пуще всех ласкал-потчевал хозяин. И тут голову ломать не приходилось – из-за Антониды, Антонида в школе служить будет – чтобы у нее ни камня, ни палки под ногами не валялось.
А вот зачем Петр Иванович Афоньку-ветеринара отличает, Пелагее было непонятно. Афонька теперь невелика шишка, не партейный секретарь, еще весной сняли, шумно сняли, с прописью в районной газетке, и когда теперь вновь подымется?
А в общем, Пелагея недолго ломала голову над Афонькой. До Афоньки ли ей, когда кругом столько нужных людей! Это ведь у Сарки-брюшины, жены Антохи-конюха (вот с кем теперь приходится сидеть рядом!), никаких забот, а у нее, у Пелагеи, муж больной – обо всем надо самой подумать.
И вот когда председатель сельсовета вылез из-за стола да пошел проветриться – и она вслед за ним. Встала в конец огородца – дьявол с ним, что он, лешак, рядом в нужнике ворочается, зато выйдет – никто не переймет.
А перенять-то хотели. Кто-то вроде Антохи-конюха – его, кажись, рубаха белая мелькнула – выбегал на крыльцо.
Да, верно, увидел, что его опередили, – убрался.
Ну и удозорила – и о сене напомнила, и об Альке словцо закинула. С сеном – вот уж не думала – оказалось просто. «Подведем Павла под инвалидность, как на колхозной работе пострадавши. Дадим участок».
А насчет Альки, как и весной, о первом мае, начал крутить:
– Не обещаю, не обещаю, Пелагея. Пущай поробит годик-другой на скотном дворе. Труд – основа…
– Да ведь одна она у меня, Василий Игнатьевич, – взмолилась Пелагея. – Хочется выучить. Отец малограмотный, я, Василий Игнатьевич, как тетера темная…
– Ну, ты-то не тетера.
– Тетера, тетера, Вася (тут можно и не Василий Игнатьевич), голова-то смалу мохом проросла (наговаривай на себя больше: себя роняешь – начальство подымаешь).
Председатель – кобелина известный – потянул ее к себе. Пелагея легонько, так, чтобы не обидеть, оттолкнула его (не дай бог, кто увидит), шлепнула по жирной спине.
– Не тронь мое костье. Упаду – не собрать.
– Эх, Полька, Полька… – вздохнул председатель. – Какие у тебя волосы раньше были! Помнишь, как-то на вечерянке я протащил тебя от окошка до лавки? Все хотелось попробовать – выдержат ли? Золото – не косу ты носила.
– Давай не плети, лешак, – нахмурилась Пелагея. – Кого-нибудь другого таскал. Так бы и позволила тебе Полька…
– Тебя! – заупрямился председатель.
– Ну ладно, ладно. Меня, – согласилась Пелагея.
Чего пьяному поперек вставать.
И вдруг почувствовала, как слегка отпотели глаза – слез давно нет, слезы у печи выгорели. Были, были у нее волосы. Бывало, из бани выйдешь – не знаешь, как и расчесать: зубья летят у гребня. А в школе учитель все электричество на ее волосах показывал. Нарвет кучу мелких бумажек и давай их гребенкой собирать…
Пелагея, однако, ходу воспоминаниям не дала – не за тем дожидалась этого борова, чтобы вспоминать с ним, какие у нее волосы были. И она снова повернула разговор к делу. Легко с пьяным-то начальством говорить: сердце наскрозь видно.
– Ладно, подумаем, – проворчал сквозь зубы председатель (головой-то, наверно, все еще был на вечерянке).
А потом – как в прошлый раз: «Отдай за моего парня Альку. Без справки возьмем». Да так пристал, что она не рада была, что и разговор завела. Она ему так и эдак: ноне не старое время, Васенька, не нам молодое дело решать. Да и Алька какая еще невеста – за партой сидит…
– Хо, она, может, еще три года будет сидеть.
(Альке неважно давалось ученье: в двух классах по два года болталась.)
Потом в психи ударился, в бутылку полез:
– А-а, тебе мой парень не гленется?
– Гленется, гленется, Василий Игнатьевич.
Тут уж Васей да Васенькой, когда человек в кураж вошел, называть не к чему. А сама подумала: с чего же твой губан будет гленуться? Ведь ты и сам не ягодка. Тоже губан – помню, не забыла, как до моей косы на вечерянках добирался.
На ее счастье, в это время на крыльце показался Петр Иванович (хозяин – за всеми надо углядеть), и она, подхватив председателя, повела его в комнаты.
Так под ручку с советской властью и заявилась – пускай все видят. Рано ее еще на задворки задвигать.
И Петр Иванович тоже пускай посмотрит да подумает – умный человек!
А в комнатах в это время все сгрудились у раскрытых окошек – молодежь шла мимо.
– Пелагея, Пелагая! Алька-то у тебя…
– Апельсин! – звонко щелкнул пальцами Афонька-ветеринар.
– Вот как, вот как она вцепилась в офицера! Разбирается, ха-ха! Небось не в солдата…
– Мне, как директору, такие разговоры об ученице…
– Да брось ты, Григорий Васильевич, насчет этой моральности…
– Гулять с ученицей неморально, – громко отчеканил Афонька, – но которая ежели выше средней упитанности…
Тут, конечно, все заржали – весело, когда по чужим прокатываются, – а Пелагея не знала, куда и глаза девать.
Сука девка! Смалу к ней мужики льнут, а что будет, когда в года войдет?
Петр Иванович, спасибо, сбил мужиков с жеребятины, Петр Иванович налил стопки, возгласил:
– Давайте, дорогие гости, за наших детей.
– Пра-виль-но-о! Для них живем.
– От-ста-вить!
Афонька-ветеринар. Чего еще цыган черный надумал?
Вот завсегда так: люди только настроятся на хороший лад, а он глазищи черные выворотит – обязательно поперек.
– Отставить! – опять заорал Афонька и встал. – За нашу советскую молодежь!
– Пра-виль-но!
– За молодежь, Афанасий Платонович.
– От-ста-вить! Разговорчики!
Да, вот так. Встанет дьявол поджарый и начнет сквозь зубы команды подавать, как будто он не с людьми хорошими разговаривает, а у себя на ветеринарном участке лошадей объезжает.
– За всемирный форум молодежи! За молодость нашей планеты!
Вот и сказал! Начали было за детей, а теперь незнамо и за что.
– Пить – всем! – опять скомандовал Афонька. Черной головней мотнул, как ворон крылом. Глазами не посмотрел – прошагал по столу и вдруг уставился на Павла – Павел один не поднял рюмку.
– Афанасий Платонович, – заступилась за мужа Пелагея, – ему довольно, у него сердце больное.
– Я на-ста-иваю!
Подбежал Петр Иванович: не тяни, мол, соглашайся.
А тот ирод как с трибуны:
– Я прыцыпально!
– Да выпей ты маленько-то, – толкнула под локоть мужа Пелагея и тихо, на ухо добавила: – Ведь он не отстанет, смола. Разве не знаешь? Да выпей, кому говорят! – уже рассердилась она (Афонька стоит, Петр Иванович внаклон). – Сколько тебя еще упрашивать? Люди ждут.
Павел трясущейся рукой взялся за рюмку.
– Ура! – гаркнул Афонька.
– Ур-рра-а! – заревели все.
Потом был еще «посошок» – какой же хозяин отпустит гостей без посошка в дорогу, – потом была чарка «мира и дружбы» – под порогом хозяин обносил желающих, – и только после этого выбрались на волю.
На крыльце кого-то потянуло было на песню, но Афонька-ветеринар (вот где пригодилась его команда) живо привел буяна в чувство:
– Звук! Пей-гуляй – не рабочее время. А тихо, тихо у меня!
Следующий заход был к председателю лесхимартели, человеку для Пелагеи, прямо сказать, бесполезному. По крайности за все эти годы, что она пекарем, ей ни разу не доводилось иметь с ним дела, хотя, с другой стороны, кто знает, как повернет жизнь. Сегодня он тебе ни к чему, а завтра, может, он-то и встанет на твоей дороге.
В общем, не мешало бы и к председателю лесхимартели сходить. Но что поделаешь – Павел совсем раскис к этому времени, и она, взяв его под руку, повела домой.
– Летнюю-то кухню видел у Петра Ивановича? Сама говорит: рай. Все лето жары в доме не будет.
Павел ничего не ответил.
Пелагея рассказала мужу о своем разговоре с председателем сельсовета насчет сена и справки. При этом она не очень-то огорчалась, что председатель опять крутил насчет справки. Альке учиться еще год – в восьмой класс осенью пойдет, – и за это время можно найти ходы. Есть у нее кое-какая зацепка и в районе. Хоть тот же Иван Федорович из райисполкома. После войны сколько раз она выручала его хлебом – неужто ее добро не вспомнит?
Пелагею сейчас занимало другое – та загадка, которую задал ей Петр Иванович. Три года их в забытьи держал, а сегодня позвал – с чего бы это?
Сама она ему не нужна, рассуждала Пелагея, это ясно.
Кончилось ее времечко – кто же нынче станет пекариху обхаживать? Давно люди набили хлебом брюхо. Может, на Альку виды имеет?
Слыхала она, что Сергей Петрович на ее дочь глаза пялит, и намекни ей Петр Иванович: так и так, мол, Пелагея, рановато мы с тобой компанию оборвали, кто знает, еще как жизнь-то распорядится, – да разве бы она не поняла?
Не намекнул.
Она думала: при прощанье шепнет. И при прощанье не шепнул. «Благодарю за уваженье. Благодарю». И все.
Иди, ломай себе голову.
Непонятным, подозрительным теперь казалось Пелагее и то, что позвали их к Петру Ивановичу второпях, когда все гости уже были в сборе. Неужто это не от самого Петра Ивановича шло, а от кого-нибудь другого?
От Васьки-губана? (Так по-уличному, сама с собою, называла она председателя сельсовета.)
Может, может так быть, решила Пелагея. Парень у губана жених. Постоянно возле их дома мотается. Да нет, Васенька, больно жирно. По зубам кусок выбирай. Топором-то нынче жизнь не завоюешь, а что еще твой сынок умеет? Смех! В город ездил, два года учился, а приехал все с тем же топором. На плотника выучился.
Павлу вечерняя свежесть не помогла. Он, как куль, висел у нее на руке.
Она сняла с него шляпу, сняла галстук.
– Потерпи маленько. Скоро уж. У меня у самой ноги огнем горят.
Да, чистое наказанье эти туфли на высоком каблуке.
Кто их только и выдумал! В третьем годе они справили всю эту справу – и шляпу, и галстук, и туфли с высокими каблуками. Думали: с культурными да образованными людьми компанию водят, надо и самим тянуться. А и зря: за три года первый раз в гости вышли.
У Аграфениной избы остановились – Павел совсем огрузнел, и тут, как назло, – Анисья. Выперла на них прямо из-за угла, да не одна – с беспутными Манями.
Павел только увидел дорогую сестрицу, закачался, как подрубленное дерево. А она, Пелагея, тоже поначалу ни туда ни сюда, будто ум отшибло.
И еще одну глупость сделала – клюнула на удочку Мани-большой.
Та – шаромыжина известная:
– Что, Прокопьевна, вольным воздухом подышать вышли?
– Вышли, вышли, Марья Архиповна! Сам лежал, лежал на кровати: «Выведи-ко, жена, на чистый роздух…»
А как же иначе? Не у себя дома-на улице: хошь не хошь, а отвечай, коли спрашивают.
Об одном не подумала она в ту минуту – что бревно стоячее тоже иной раз говорит. А Матреха – мало того что бревно, еще и глуха – просто бухнула, а не заговорила:
– Почто врешь? Вы у Петра Ивановича были…
Вот тут и пошло, завертелось. Анисья – шары налила – давай высказываться на всю улицу: «Вы признавать меня не хочете… вы сестры родной постыдились… ты дом родительский разорила…» – это уж прямо по ее, Пелагеиной, части. Каждый раз, когда напьется, про дом вспоминает.
Ну, понятное дело, Пелагея в долгу не осталась. А как же? Тебя по загривку, а ты в ножки кланяться? Нет, получай сполна. И еще с довесом…
А тут Павлу сделалось худо, его начало рвать. А из окошка выглянула Аграфена Длинные Зубы: дождалась праздничка, есть теперь о что клыки поточить; Толя-воробышек прилетел… В общем, не надо в кино ходить. На всю улицу срамоту развели.
И только одно успокаивало Пелагею – не было поблизости хороших людей. Не было. А раз не было – пыль эта, поднятая у Аграфениной избы, до первого дождя.
– Ты как золотой волной накрывшись… Искры от тебя летят…
Так плел ей, рассказывал Олеша-рабочком про свою первую встречу с ней, про то, как увидел ее у раскрытого окошка за расчесыванием волос. А сама она из той встречи только и запомнила, что резкую боль в голове (лапу в волосы запустил, дьявол) да нахальные, с жарким раскосом глаза. И уж, конечно, никак не думала, не гадала, что ихние дороги когда-нибудь пересекутся. Какой может быть пересек у простой колхозницы с начальником заречья? Шел мимо да увидел молодую бабу в окошке – вот и потешил себя, подергал за волосья.
А дороги пересеклись. Недели через полторы-две, под вечер, Пелагея полоскала белье у реки, и вдруг опять этот самый Олеша. Неизвестно даже, откуда и взялся. Как из-под земли вырос. Стоит, смотрит на нее сбоку да скалит зубы.
– Чего платок-то не снимаешь? Не холодно.
– А ты что – опять к волосам моим подбираешься? Проваливай, проваливай, покамест коромыслом не отводила! Не посмотрю, что начальник.
– Ладно тебе. Убыдет, ежели покажешь.
– А вот и убыдет. Ты небось в кино ходишь, билет покупаешь, а тут бесплатно хочешь?
– А сколько твой билет?
– Иди, иди с богом. Некогда мне с тобой лясы точить.
И в третий раз они встретились. И опять у реки, опять за полосканьем белья. И тут уж она догадалась: подкарауливал ее Олеша.
– Ну, говори, сколько твой билет стоит? – опять завел свою песню.
– Дорого! Денег у тебя не хватит.
– Хватит!
– Не хватит.
– Нет, хватит, говорю!
– А вот устрой пекарихой за рекой – без денег покажу.
Как уж ей тогда пришло это на ум, она не могла бы объяснить. И еще меньше могла бы подумать, что Олеша эти слова примет всерьез.
А он принял.
– Ладно, устрою. Показывай.
– Нет, ты сперва денежки на бочку, а потом руки к товару протягивай. – И тут Пелагея, к своему немалому удивлению, как бы рассмеялась и эдак шаловливо прискинула платок – дьявол, наверно, толкнул ее в бок.
И Олеша совсем ошалел:
– Ежели дашь мне выспаться на твоих волосах, вот те бог – через неделю сделаю пекарихой. Я не шучу.
– А и я не шучу, – ответила Пелагея.
Через неделю она стала пекарихой – сдержал свое слово Олеша. Со скотного двора ее вырвал, все стены вокруг разрушил – вот как закружило человека.
Ну и она сдержала слово – в первый же день на ночь осталась на пекарне. А под утро, выпроваживая Олешу, сказала:
– Ну, теперь забудь про мои волосы. Квиты. И не вздумай меня снимать. Я кусачая…
Сколько лет прошло с тех пор, сколько воды утекло в реке! И где теперь Олеша? Жив ли? Помнит ли еще зареченскую пекариху с золотыми волосами?
А она его забыла. Забыла сразу же, как только закрыла за ним дверь. Нечего помнить. Не для услады, не для утехи переспала с чужим мужиком. И ежели сейчас этот топляк, чуть ли не два десятка лет пролежавший на дне ее памяти, вдруг и вынырнул на поверхность, то только потому, что, распуская на ночь свой хвостик на затылке – вот что осталось от прежнего золота, – она вспомнила про свой давешний разговор с Васькой-губаном.
Павел уже спал, похрапывая. Пелагея, как всегда, поставила кружку с кипяченой водой на табуретку, положила таблетки в стеклянном патроне и наконец-то легла сама. На перину, разостланную возле кровати, – чтобы всегда быть под рукой у больного мужа.
Она привыкла к храпу Павла (он и до болезни храпел), но нынешний храп ей показался каким-то нехорошим, будто душили его, и она, уже борясь со сном, приподняла свою отяжелевшую голову. Чтобы последний раз взглянуть на мужа. Приподняла и – с чего? почему? – опять ее, второй или третий раз сегодня, откинуло к прошлому.
Она подумала: догадался или нет тогда Павел насчет Олеши? Во всяком случае, назавтра, утром, когда она пришла домой, он ничем не выдал себя. Ни единого попрека, ни единого вопроса. Только, может, в ту минуту, когда заговорил о бане, немного скосил в сторону глаза.
– У нас баня сегодня, – сказал ей тогда Павел. – Когда пойдешь? Может, в первый жар?
– В первый, – сказала Пелагея.
И в то утро она два березовых веника исхлестала о себя. Жарилась, парилась, чтобы не только грязи на теле – в памяти следа не осталось от той поганой ночи.
Но след остался. И мало того, что она сейчас совсем некстати подумала о том, знал или не знал Павел про ее грех; это еще пустяк – кому важно теперь то, что было столько лет назад. А как быть, ежели время от времени, глядя на свою дочь, ты начинаешь думать об Олеше, по-матерински высчитывать сроки?
Не спуская глаз с тяжело дышавшего мужа, Пелагея и сейчас была занята этими вычетами. На пекарню она поступила в сентябре, 11 числа. Алька родилась 15 апреля… Восемь месяцев… Нет, с облегчением перевела она дух, восьмимесячные не рождаются, рождаются семи месяцев, да и то еле живые. А про Альку этого не скажешь.