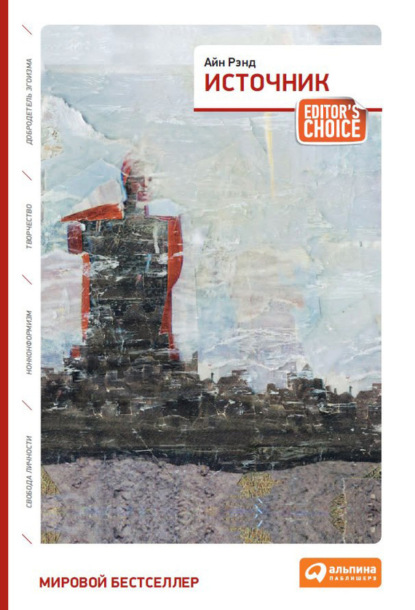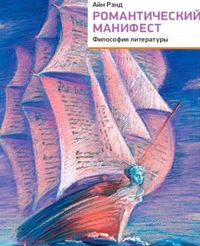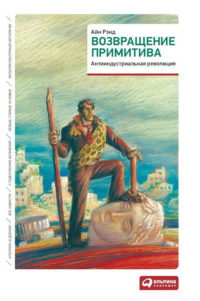Полная версия
Атлант расправил плечи
Уэсли Моуч, его человек в Вашингтоне, посоветовал Риардену не беспокоиться; по его мнению, схватка предстояла упорная, однако законопроект будет отклонен.
Риарден ничего не понимал в такого рода сражениях. Возможность вести их он предоставил Моучу и его штабу. Он едва находил время, чтобы пробегать полученные из Вашингтона сообщения и подписывать чеки, присланные Моучем на оплату его баталий.
Риарден не верил в то, что законопроект может пройти. Он просто не мог допустить этого. Проведя свою жизнь в чистой реальности: посреди металлов, техники и технологий, – он приобрел искреннюю уверенность в том, что человеку следует иметь дело только с вещами рациональными, а не безумными, что следует искать правды, ибо верным всегда является только правдивый ответ, что бессмысленное, ложное, чудовищно несправедливое не способно преуспеть, не способно ни на что другое, кроме как потерпеть поражение. Битва с такой вещью, как упомянутый законопроект, казалась ему отвратительной и даже просто немыслимой – как если его вдруг попросили бы конкурировать с человеком, рассчитывающим состав стальных сплавов по формулам нумерологии.
Риарден напомнил себе о том, что вопрос этот представляет собой существенную опасность. И все же даже самый отчаянный визг наиболее истеричной газетенки не пробуждал в нем никаких чувств, в то время как изменение какой-нибудь характеристики риарден-металла в лабораторном эксперименте заставляло его вскакивать на ноги от нетерпения или тревоги.
У него не оставалось сил ни на что другое.
Риарден смял передовицу и швырнул ее в корзину для бумаг. Он ощущал приближение свинцового утомления, которое никогда не посещало его на работе, как будто карауля его и поджидая того мгновения, когда он обратится к другим делам. Риардену казалось, что он не испытывает никакой иной потребности, кроме отчаянного желания спать. Он сказал себе, что должен присутствовать на вечеринке, что у родных есть право требовать от него этой уступки и что он обязан научиться испытывать понятное им удовольствие – не ради себя, ради них.
Он задавался вопросом, почему мотив не имеет над ним власти, не побуждает к действию. Всю его жизнь в тех случаях, когда он считал правильным тот или иной вектор действия, желание следовать ему являлось автоматически. «Что происходит со мной?» – гадал Риарден. Немыслимый конфликт чувств, нежелание поступать правильно – не это ли основная формула морального разложения? Признавать собственную вину, не ощущая при этом ничего, кроме холодного, глубочайшего безразличия – не в этом ли предательство сути, двигателя его жизни, источника его гордости?
Не теряя больше времени на поиски ответа, он оделся – быстро и без жалости к себе.
Не сгибая спины, ступая с неспешной и естественной властностью, с безукоризненно белым платком в нагрудном кармане черного фрака, он неторопливо сошел по лестнице в гостиную с видом истинно великого предпринимателя – к вящему удовлетворению собравшихся пожилых дам.
Лилиан стояла возле подножия лестницы. Благородные линии лимонно-желтого вечернего платья в стиле ампир подчеркивали изящество ее тела, и держалась она как человек, полностью довольный окружающим. Риарден улыбнулся, ему было приятно видеть жену счастливой; ее радость оправдывала весь прием.
Однако приблизившись к ней, он замер. Лилиан всегда обладала хорошим вкусом в отношении драгоценностей и никогда не надевала их больше, чем нужно. Однако в этот вечер она устроила целую выставку: бриллиантовое ожерелье соседствовало с алмазными серьгами, кольцами и брошками. Руки ее по контрасту казались подозрительно обнаженными. Лишь правое запястье украшал браслет из риарден-металла. Сыпавшие искры бриллианты превращали браслет в подобие дешевой побрякушки из грошового ларька.
Переведя взгляд с запястья жены на ее лицо, Риарден поймал на себе ее встречный взгляд. Она прищурилась, и он не мог истолковать выражение ее глаз; взгляд Лилиан был замкнут и сосредоточен, он скрывал в себе нечто, старавшееся спастись от разоблачения.
Риардену хотелось сорвать браслет с ее руки. Но вместо этого, покоряясь ее веселому голосу, приветствовавшему очередную гостью, он с бесстрастным выражением лица поклонился стоявшей перед ними даме.
– Человек? Что есть человек? Всего лишь горстка наделенных манией величия химикалий, – обратился доктор Притчетт к группе находившихся на противоположной стороне комнаты гостей.
Взяв двумя пальцами канапе с хрустального блюда, доктор Притчетт отправил его целиком в рот.
– Метафизические претензии человека нелепы, – провозгласил он. – Этот жалкий комок протоплазмы, полный уродливых и мелких концепций, посредственных и не менее мелочных чувств, воображает себя значительным! Именно в этом, на мой взгляд, и коренятся все горести мира.
– Но какие же концепции, профессор, вы назовете не мелочными и не уродливыми? – с искренним интересом спросила дама, мужу которой принадлежал автомобильный завод.
– Таких нет, – ответил доктор Притчетт, – просто нет, в рамках человеческих способностей, разумеется.
Молодой человек нерешительным тоном спросил:
– Но если у нас нет никаких добротных концепций, как можно назвать уродливыми те, которыми мы располагаем? Какие здесь существуют критерии?
– Их не существует вовсе.
Слушатели невольно притихли.
– Философы прошлого судили поверхностно, – продолжал доктор Притчетт. – И на долю нашего столетия выпало заново определить цель философии. Она заключается вовсе не в том, чтобы помочь человеку определить смысл жизни, но в том, чтобы доказать, что такового не существует вовсе.
Привлекательная молодая женщина, дочь владельца угольной шахты, негодующим тоном спросила:
– Но кто может утверждать это?
– Я пытаюсь, – проговорил доктор Притчетт. Последние три года он возглавлял факультет философии в университете Патрика Генри.
К нему подошла Лилиан Риарден, сверкая бриллиантами в свете ламп.
Выражение ее лица, легкая улыбка казались вышедшими из-под рук того же парикмахера, что укладывал ей волосы.
– Таким трудным человека делает его стремление к смыслу, – продолжил доктор Притчетт. – И когда он поймет, что не имеет абсолютно никакого значения в огромной Вселенной, что всякая деятельность его бессмысленна как таковая, что не имеет никакого значения, жив он или умер, то он сразу сделается существенно… покорней.
Пожав плечами, он потянулся к другому канапе.
Бизнесмен недоуменно произнес:
– Но, профессор, я спрашивал вас о том, что вы думаете в отношении Закона справедливой доли.
– Ах, это? – проговорил доктор Притчетт. – Но, по-моему, я дал ясно понять, что поддерживаю его, поскольку являюсь сторонником свободной экономики. A свободная экономика не способна существовать без конкуренции. Посему людей следует заставить конкурировать. Итак, следует управлять людьми, чтобы заставить их стать свободными.
– Но, видите ли… разве вы не противоречите самому себе?
– Нет – в высшем философском смысле. Необходимо научиться обходиться без рамок статичных формулировок, присущих старомодному мышлению. Во Вселенной нет ничего статичного. Все течет.
– Однако разум говорит, что…
– Разум, мой дорогой друг, является самым наивным из предрассудков. Таково ныне, во всяком случае, общее мнение.
– Но я не вполне понимаю, как мы можем…
– Вас мучит популярное заблуждение: вы предполагаете, что все можно понять. Вы не осознаете того факта, что сама Вселенная представляет собой колоссальное противоречие.
– С чем же? – спросила матрона.
– С собой, с самой Вселенной.
– Но… как это возможно?
– Моя дорогая леди, долг мыслителей заключается не в том, чтобы объяснять мир, но в том, чтобы доказывать, что объяснить что-либо невозможно.
– Да, конечно… только…
– Предназначение философии заключается в поисках – но не знания, а доказательства того, что человек не может обладать знанием.
– И что же останется, – спросила молодая женщина, – после того, как мы сумеем доказать это?
– Инстинкты, – с глубокой почтительностью промолвил доктор Притчетт.
Собравшаяся на другом конце комнаты группа внимала Бальфу Юбэнку. Он сидел, выпрямившись, на краешке кресла, стараясь удержать в целости свое грузное тело, в расслабленном состоянии кажущееся особенно необъятным.
– Литература прошлого, – вещал Бальф Юбэнк, – представляла собой мелкое жульничество. Она лакировала жизнь в угоду денежным мешкам, которым служила. Моральные принципы, свободная воля, достижения, торжество добра, героизм в изображении человека – все это теперь выглядит откровенно смешно. Наш век впервые наделил литературу глубиной, обнажив истинную сущность жизни.
Молоденькая девушка в белом вечернем платье робко спросила:
– А какова истинная сущность жизни, мистер Юбэнк?
– Страдание, – ответил Бальф Юбэнк. – Поражение и страдание.
– Но… но почему? Люди же бывают счастливы… хотя бы иногда… разве не так?
– Это заблуждение исповедуют натуры поверхностные.
Девушка покраснела. Состоятельная дама, унаследовавшая нефтеперегонный завод, спросила виноватым тоном:
– Но что мы должны делать, мистер Юбэнк, чтобы улучшить литературный вкус масс?
– В этом заключается великая общественная проблема, – проговорил Бальф Юбэнк. Его считали литературным лидером века, невзирая на то, что ни одна из написанных им книг не была продана тиражом больше трех тысяч экземпляров. – И лично я полагаю, что Закон справедливой доли в применении к литературе позволит разрешить эту проблему.
– O, так вы одобряете этот законопроект и в отношении к промышленности? Я не знаю, что и думать об этом.
– Конечно же, я одобряю его. Наша культура погрязла в болоте материализма. В погоне за материальной выгодой и технологическими фокусами люди утратили все духовные ценности. Мир сделался чересчур комфортабельным. Но люди возвратятся к более благородному образу жизни, если мы заново научим их терпеть лишения. И поэтому мы должны положить конец личной жадности.
– Я никогда не воспринимала эту проблему под таким углом, – виноватым тоном произнесла женщина.
– Но как вы намереваетесь применить Закон справедливой доли к литературе, Ральф? – спросил Морт Лидди. – Это какая-то новая идея.
– Меня зовут Бальф, – недовольным тоном буркнул Юбэнк. – И идея эта кажется вам новой, потому что принадлежит лично мне.
– Ну-ну, я не пытаюсь затеять ссору! Я просто спрашиваю. – Морт Лидди улыбнулся. Нервная улыбка почти не сходила с его лица. Он был композитором и писал старомодную музыку для кино и модернистские симфонии, исполнявшиеся в полупустых залах.
– Все очень просто, – сказал Бальф Юбэнк. – Необходимо выпустить закон, ограничивающий тираж любой книги десятью тысячами экземпляров. Эта мера откроет литературный рынок перед новыми дарованиями, свежими идеями и некоммерческой литературой. Если запретить людям раскупать миллионные тиражи какой-нибудь дряни, они волей-неволей начнут покупать более качественные книги.
– Что-то в этом есть, – промолвил Морт Лидди. – Однако не отрицательно ли повлияет подобная постановка дела на банковские счета писателей?
– Тем лучше. Позволять писать следует только тем, кто делает это не из корысти.
– Мистер Юбэнк, – спросила юная девушка в белом платье, – но что в таком случае делать, если купить какую-то книгу захотят больше десяти тысяч человек?
– Десяти тысяч читателей вполне достаточно для любой книги.
– Я имею в виду совсем не это. Я про то, если они захотят?
– Это совершенно не относится к делу.
– Но если книга содержит интересное повествование, которое…
– Сюжет в литературе следует считать примитивной пошлостью, – презрительно бросил Бальф Юбэнк.
Доктор Притчетт, пересекавший комнату, направляясь к бару, остановился, чтобы заметить:
– Именно так. Так же как логику следует считать примитивной пошлостью в философии.
– А мелодию примитивной пошлостью в музыке, – добавил Морт Лидди.
– О чем спор? – поинтересовалась Лилиан Риарден, остановившаяся возле них.
– Лилиан, ангел мой, – пропел Бальф Юбэнк, – я не говорил еще, что посвящаю свой новый роман вам?
– В самом деле? Спасибо, мой дорогой.
– А как будет называться ваш новый роман? – осведомилась состоятельная дама.
– «Сердце – одинокий молочник».
– И о чем же он будет рассказывать?
– О разочаровании.
– Но мистер Юбэнк, – отчаянно краснея, произнесла девушка в белом платье, – если вокруг одно сплошное разочарование, зачем тогда жить?
– Ради братской любви, – мрачным голосом ответил Бальф Юбэнк.
Бертрам Скаддер сутулился за стойкой бара. Его длинное и узкое лицо словно бы запало внутрь, за исключением глаз и рта, мягкими шариками выкатывавшимися наружу. Он издавал журнал, носивший название «Будущее», и опубликовал в нем статью о Хэнке Риардене, озаглавленную «Спрут».
Взяв опустевший бокал, Бертрам Скаддер молча подал его бармену для новой порции. Получив его наполненным и сделав глоток, он заметил пустой бокал перед стоявшим рядом с ним Филиппом Риарденом и движением большого пальца дал безмолвное указание бармену. Скаддер не обратил никакого внимания на пустой бокал Бетти Поуп, стоявшей по другую сторону от Филиппа.
– Вот что, приятель, – сказал Бертрам Скаддер, вперив взгляд куда-то рядом с Филиппом, – хотите вы этого или нет, но Закон справедливой доли представляет собой огромный шаг вперед.
– Что заставляет вас думать, что он не нравится мне, мистер Скаддер? – смиренно спросил Филипп.
– Ну что ж, его применение окажется болезненным. Длинная рука общества основательно сократит перечень имеющихся здесь шедевров. – Он указал рукой в сторону бара.
– А почему вы считаете, что я буду возражать против этого?
– Так, значит, не будете? – поинтересовался Бертрам Скаддер без особого любопытства.
– Не буду! – с пылом воскликнул Филипп. – Я всегда ставил общественное благо выше любых личных соображений. Я отдавал свое время и деньги обществу «Друзья Глобального Прогресса», ведущему крестовый поход за принятие Закона справедливой доли. На мой взгляд, совершенно нечестно, когда все шансы достаются одному человеку, а другим ничего не остается.
Бертрам Скаддер задумчиво, но без особого интереса посмотрел на Филиппа и молвил:
– Что ж, это необыкновенно мило с вашей стороны.
– Некоторые люди относятся к моральным принципам весьма серьезно, мистер Скаддер, – проговорил Филипп с подчеркнутой гордостью.
– О чем он говорит, Филипп? – спросила Бетти Поуп. – Мы не знаем никого, кому принадлежало бы больше одного предприятия, правда?
– Да бросьте говорить ерунду! – протянул Бертрам Скаддер полным скуки тоном.
– Не понимаю, откуда взялось столько шума по поводу этого билля, – с воинственной интонацией знатока экономики произнесла Бетти Поуп. – Не знаю, почему бизнесмены так ожесточились против него. Ведь Закон справедливой доли преследует их собственную выгоду. Если все вокруг бедны, предпринимателям некуда сбывать свои товары. Но если они ограничат собственный эгоизм и поделятся накопленной собственностью, у них появится шанс произвести новый товар.
– А я не понимаю, почему вообще нужно учитывать интересы промышленников, – проговорил Скаддер. – Когда народные массы обнищали, но товары остаются доступными, лишь полный идиот будет рассчитывать на то, что народ удастся остановить бумажкой, назвав ее актом о собственности. Право собственности представляет собой чистое суеверие. Собственность остается в чьем-нибудь распоряжении только из любезности тех, кто не захватывает ее. И народ всегда может сделать это. А если он может сделать это, то почему бы ему, наконец, не перейти к делу?
– Непременно перейдет, – вступил в разговор Клод Слагенхоп. – Он нуждается. И нужда является единственным оправданием. Когда нуждается народ, он сперва берет свое, а потом обговаривает свое приобретение.
Незаметно появившийся Клод Слагенхоп каким-то образом втиснулся между Филиппом и Скаддером, отодвинув последнего в сторону.
Крепыша Слагенхопа нельзя было назвать высоким или тяжеловесным, лицо его украшал сломанный нос. Он являлся президентом общества «Друзья Глобального Прогресса».
– Голод не будет ждать, – продолжил Клод Слагенхоп. – Идея – это всего лишь воздух. A пустое брюхо – это материальный факт. Во всех своих речах я говорил, что всякие разговоры излишни. Общество в настоящее время страдает от отсутствия деловых возможностей, и потому мы считаем себя вправе захватить существующие возможности. Законом следует считать то, что служит благу общества.
– Но он же не копал эту руду собственными руками, так ведь? – вдруг воскликнул Филипп пронзительным голосом. – Ему пришлось нанимать сотни рабочих. Они-то и сделали это. Почему же он так доволен собой?
Оба собеседника посмотрели на него: Скаддер чуть приподнял бровь, Слагенхоп – без какого-либо выражения на лице.
– O боже мой! – припомнила что-то Бетти Поуп.
Хэнк Риарден остановился возле окна в затененной нише в конце гостиной. Он надеялся, что сумеет урвать несколько минут отдыха.
Риарден только что отделался от женщины средних лет, решившей поделиться с ним своим парапсихологическим опытом. Он стоял и смотрел в окно. Вдалеке в небе полыхало привычное красное зарево над «Риарден Стил». С чувством облегчения он позволил себе долгий взгляд в сторону завода.
Он повернулся лицом к гостиной. Риарден никогда не любил свой дом; облик его создавала Лилиан. Однако сегодня поток ярких вечерних платьев затмевал собой комнату, наделяя ее весельем и блеском. Ему нравилось видеть, как веселятся люди, пусть сам он и не понимал их манеру развлекаться.
Риарден посмотрел на цветы, на искры света в хрустальных бокалах, на обнаженные женские руки и плечи. За окном над осенними просторами задувал холодный ветер. Тонкие ветви близкого дерева показались ему молящими о помощи руками. За деревом светилось зарево далекого завода.
Он не мог дать имени этому чувству. У него не было слов, которыми можно было бы назвать его причину, качество, смысл. Отчасти оно состояло из радости, к которой примешивалось желание обнажить голову – неведомо перед кем.
Он сделал шаг к гостям с улыбкой на лице. Однако лицо его немедленно сделалось серьезным: в дверях появилась новая гостья – Дагни Таггерт.
С любопытством разглядывая Дагни, Лилиан поспешила к ней навстречу. Они уже несколько раз встречались по разным поводам, и Лилиан было странно видеть Дагни Таггерт в вечернем наряде. Верх черного платья пелериной прикрывал одно плечо, оставляя другое обнаженным – оно-то и являлось единственным украшением ее наряда. Привычные для Дагни Таггерт рабочие костюмы не наводили на мысли о ее теле. Черное же бальное платье казалось чрезмерно открытым, потому что нагое плечо было таким хрупким и прекрасным, a бриллиантовый браслет на запястье придавал ее женственности тот яркий оттенок, который приносит несвобода.
– Мисс Таггерт, какой чудесный сюрприз, я так рада видеть вас, – произнесла Лилиан Риарден, изображая лицевыми мышцами улыбку. – Я и не надеялась, что мое приглашение сможет оторвать вас от куда более важных дел. Если позволите, я даже польщена.
Джеймс Таггерт вошел вместе со своей сестрой. Лилиан улыбнулась ему – в виде торопливого постскриптума, словно бы только что заметив его.
– Хелло, Джеймс. Такова кара за известность – увидев твою сестру, трудно вспомнить о тебе.
– Но с тобой, Лилиан, никто не может состязаться в известности, – ответил он со скупой улыбкой, – как не может никто и забыть тебя.
– Меня? O, я вполне смирилась с ролью незаметной тени собственного мужа. И вполне готова признать, что жена великого человека должна быть довольна отблесками его славы… не так ли, мисс Таггерт?
– Нет, – возразила Дагни. – Я так не считаю.
– Это комплимент или осуждение, мисс Таггерт? Но простите мне признание в собственной беспомощности. Кого я могу представить вам? Боюсь, что у меня нет никого, кроме писателей и художников, a они, не сомневаюсь, не представляют интереса для вас.
– Мне бы хотелось найти Хэнка и поздороваться с ним.
– Ну, конечно. Джеймс, ты не забыл, что намеревался поговорить с Бальфом Юбэнком?.. О, да, он здесь… Я расскажу ему, как ты нахваливал его последний роман на обеде у миссис Уиткомб!
Пересекая просторную комнату, Дагни искренне недоумевала, почему сказала, что хочет отыскать Хэнка Риардена, и что помешало ей признаться в том, что она увидела его еще от входа.
Стоя в противоположном конце длинной комнаты, Риарден смотрел на нее.
Он не отводил от нее взгляда, но не сделал и шага навстречу.
– Хэлло, Хэнк.
– Добрый вечер.
Он поклонился любезно, но холодно. Движение его тела в точности отвечало безукоризненной официальности костюма. Он не улыбнулся.
– Спасибо за приглашение, – веселым тоном произнесла она.
– Не могу претендовать на то, что знал заранее о вашем приходе.
– O? Тогда я рада, что обо мне подумала миссис Риарден. Мне захотелось сегодня сделать исключение.
– Исключение?
– Я не часто посещаю званые вечера.
– Я рад, что вы сделали исключение именно ради этого случая, – Риарден не произнес еще двух слов «мисс Таггерт», однако фраза прозвучала так, словно он сказал их.
Официальная манера его оказалась настолько неожиданной, что она не сразу сумела приспособиться к ней.
– Я хотела сегодня отпраздновать, – проговорила Дагни.
– Годовщину моей свадьбы?
– Сегодня годовщина вашей свадьбы? Не знала. Примите мои поздравления, Хэнк.
– Так что же вы хотели отпраздновать?
– Я решила, что могу позволить себе отдохнуть. Устроить собственный праздник – в вашу и мою честь.
– И по какой же причине?
Дагни думала о новой колее, проложенной по скалистым склонам гор Колорадо, медленно протягивающейся к нефтепромыслам Уайэтта. Она видела эти отливающие зеленой морской синевой рельсы на мерзлой земле, посреди сухой травы, нагих скал, ветхих хижин мучимых голодом поселков.
– В честь первых шестидесяти миль колеи из риарден-металла, – ответила она.
– Ценное событие, – тон его голоса, скорее, подошел бы к следующим словам: «Я и не знал об этом».
Дагни не могла найти, что сказать. Ей казалось, что она разговаривает с незнакомцем.
– Ого, мисс Таггерт! – их молчание прервал приветливый голос. – Именно это я и имею в виду, когда говорю, что Хэнк Риарден способен совершить любое чудо!
К ним приближался знакомый бизнесмен, улыбавшийся ей с восторгом и восхищением. Им троим нередко приходилось проводить совместные экстренные совещания по поводу темпов перевозок и поставок стали. И теперь он смотрел на нее, являя на лице своем откровенный комментарий перемене в ее внешности, которая, подумала Дагни, осталась незамеченной Риарденом.
Она рассмеялась в ответ на приветствие, не позволяя себе заметить укол разочарования в том, что такое выражение ей хотелось бы увидеть на лице Риардена. Дагни обменялась несколькими фразами с этим человеком. Когда она повернулась, Риардена рядом не оказалось.
– Так это и есть твоя знаменитая сестра? – спросил Бальф Юбэнк у Джеймса Таггерта, глядя через комнату на Дагни.
– Я и понятия не имел, что сестрица моя знаменита, – проговорил Таггерт с ноткой обиды в голосе.
– Но, мой дорогой друг, она представляет собой настолько необычайное явление в мире экономики, что люди просто не могут не говорить о ней. Твоя сестра – воплощение симптома общей болезни нашего времени. Упадочное порождение века машин. Механизмы погубили в людях человечность, оторвали их от земли, украли у них природные искусства, загубили их души и превратили в бесчувственных роботов. И вот пример: женщина, руководящая железной дорогой, вместо того, чтобы обратиться к прекрасному искусству ткачихи и выращиванию детей.
Риарден переходил от гостя к гостю, стараясь не позволить вовлечь себя в разговор. Он осмотрел комнату и не заметил ни одного человека, к которому хотел бы подойти.
– Вот что, Хэнк Риарден, вы не столь скверный парень, если посмотреть на вас вблизи, в вашем львином логове. И если бы вы хоть иногда давали нам пресс-конференции, то перетащили бы нас на свою сторону.
Риарден обернулся и, не веря себе, посмотрел на говорившего. Это был молодой газетчик весьма сомнительного пошиба, работавший в радикальном таблоиде. Задиристая фамильярность намекала на то, что грубый тон был выбран осознанно, потому что Риарден никогда не стал бы иметь дело с подобным человеком.
Риарден не пустил бы этого журналиста на свой завод, но сюда его пригласила Лилиан, и, сдержавшись, он сухо спросил:
– Что вам нужно?
– Вы не такой плохой человек. У вас есть талант. Талант инженера. Но я, конечно же, не согласен с вами в отношении риарден – металла.
– Я не просил вас соглашаться со мной.