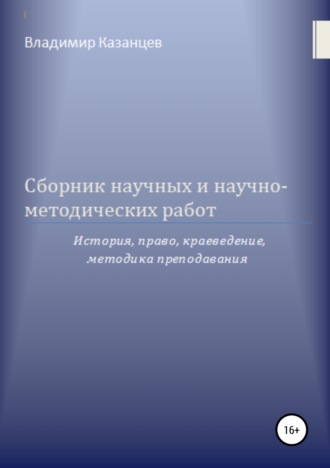 полная версия
полная версияСборник научных и научно-методических работ: история, право, краеведение, методика преподавания
Данное месторождение золота вместе с Енисейскими приисками поставит Россию на одно из первых мест в мировой добыче золота, что позволило губернатору Восточной Сибири Н. Н. Муравьёву пообещать царю добычу золота в крупных размерах, и использовать труд каторжников на золотых приисках. Самой многочисленной группой населения были рабочие (1800 человек в 1854-м году): из них половина были ссыльнокаторжные. Все рабочие промыслов делились по своему положению на три группы:
Постоянные рабочие:
а) ссыльнокаторжные;
б) заводские служащие («бергалы»).
«Конные урочники».
Самыми бесправными из всех этих категорий рабочих на Шахтаминских промыслах были ссыльнокаторжные. Законы о ссылке не разграничивали ссыльнокаторжных по характеру преступлений, то есть не делили на политических и уголовных. В соответствии со статьей 553 «Устава о ссыльных» 1845 г. каторжные делились на разряды. Каторжные, находившиеся в ведомстве Нерчинского Горного Правления и Казенных Палат, подразделялись на каторжных первого и третьего разрядов. В свою очередь каторжные первого разряда классифицировались по отделениям на бессрочных, то есть осужденных на работы без срока; осужденных на срок от 15 до 20 лет и осужденных на срок от 12 до 15 лет. Каторжные третьего разряда – соответственно на сроки от 6 до 8 лет и от 4 до 6 лет. В этом нормативном документе была введена классификация каторги на бессрочную каторгу и срочную. Предел бессрочной каторги был определен в двадцать лет, после чего предполагалось освобождение каторжных и закрепление их за тем заведением, где они работали. Срочных каторжных по истечении срока их наказания должны были отправлять в ссылку на поселение, а бывших военных отправляли к прежнему воинскому начальству.
С момента поступления на каторгу каторжных всех отделений причисляли к отряду испытуемых и содержали в тюрьмах при заводах, фабриках, приисках и рудниках. Сроки испытательных работ находились в прямой зависимости от степени наказания. Они устанавливались для каторжных первого разряда: 1) бессрочным – восемь лет; 2) присужденным к работам на время от пятнадцати до двадцати лет – четыре года; 3) присужденным к работам на время от двенадцати до пятнадцати лет – два года. Каторжным третьего разряда: 1) присужденным к работам на время от шести до восьми лет – полтора года; 2) присужденным к работам на время от четырех до шести лет – один год [Ст. 569 Устава]. В период прохождения испытательного срока на каторжных налагались оковы [ст. 556 Устава]. Наказание каторгой предполагало обязательное содержание преступников в оковах. При этом вес оков, ношение только наручников или ручных и ножных оков одновременно определялись в зависимости от разряда каторжного, его половой и возрастной принадлежностей. Например, в период прохождения испытательного срока, бессрочных каторжных первого разряда обязаны были содержать в ручных и ножных оковах, а каторжных всех остальных разрядов и отделений – только в ножных. Требование налагать ножные и ручные оковы на бессрочных каторжных распространялось также на женщин. Но их оковы предполагались менее тяжелыми, чем мужские. На женщин-каторжанок всех других разрядов и отделений эта мера наказания не распространялась [ст. 556 Устава]. Временное снятие оков разрешалось в интересах производства на период выполнения сложных работ и с согласия высшего местного начальства [ст.564 Устава].
Работы осуществлялись обязательно под надзором военного караула и должны были соответствовать тяжести работ, определенных судебным приговором [ст. 560 Устава]. Сосланных за самые тяжкие преступления и склонных к побегу приковывали к тачке, которую каторжник возил за собой и спал рядом с ней. Нужно заметить, что даже бессрочные каторжники назначались на работу не более двадцати лет. «На Шахтаминской каторге, где находились только уголовники, ссыльнокаторжные делились на три разряда: 1) испытуемых, содержащихся в тюрьме и оковах, для пересечения побегов, за постоянным военным караулом ( 870 человек, время испытания – от года до восьми лет); 2) исправляющихся, свободных от тюрьмы и оков, но находящихся под строгим надзором местной полиции и большей частью живущих в самом здании полиции, свой артелью (от года до трёх лет в зависимости от срока каторги); 3) испытанных, которые пользуются свободой наравне с заводскими служителями, поступают в разряд поселенцев и становятся постоянными жителями (прикреплялись к прииску, где работали и звались «обязательные бергалы»).»1
Поселенцы, отбывшие каторгу, могли построить дом, вступить в брак, причём им выдавалось пособие деньгами и продуктами из заработанных денег.
Работа на Шахтаминских промыслах шла в две смены. Днём, в основном, работали ссыльнокаторжные. Каторжников использовали на самых тяжёлых физических работах. Они делали вскрытие золотоносных песков, выворачивали и поднимали на борта разреза валуны, иногда весившие несколько сот пудов.
А. А. Черкасов – горный инженер, работающий на Шахтаминских промыслах с 1853 по 1855 г. писал, что «стоило только любоваться этими пасынками судьбы и удивляться их бычачьей силе или замечательной сметке русского простолюдина». Ссыльнокаторжные, как и заводские служащие получали от казны жалование 6 руб. 90 коп. серебром и кормовые деньги 18 руб. в год. Давался и хлебный провиант: два пуда в месяц. Каждая сотня ссыльнокаторжных, содержащаяся в тюрьме, имела своего артельного старосту, который подчинялся тюремному смотрителю. Староста получал на артель припасы и вещи по установленным ценам в счёт жалования и кормовых денег. Во время ревизии тюремной инспекции 1853-го года, проводимой полковником А. Д. Озерским обнаружено, что продовольствие для ссыльнокаторжных «неудовлетворительно», хотя, сравнивая содержание на Каре и Шахтаме, решил, что на Карийской каторге арестанты находятся в худшем положении. Тюремные смотрители допускали различные злоупотребления, и Озерский потребовал, что бы их выбирали из «людей отличного поведения». Обувь и одежда для каторжников так же отпускалась из казны. Однако, по свидетельству одного частного золотопромышленника: «одежда ссыльнокаторжных известна; иногда её нельзя назвать лохмотьями, потому, что они довольствуются всем тем браком, который остаётся вследствие совершенной негодности для какого либо сбыта…»2
Тяжёлые работы на золотых промыслах вызывали побеги рабочих, особенно ссыльнокаторжных. Например, в 1858 году в Нерчинском округе со всех золотых приисках бежало 488 каторжан (24% от общей численности) и 11 ссыльных жёнок (10%). Из числа бежавшихся поймано было 28%. Пойманных подвергали телесным наказаниям: пороли плетьми или наказывали шпицрутенами, могли соединить руки и ноги железными перекладинами, чтобы арестант не мог повернуться, отправляли в другое место, отдавали под военный суд.
Другой группой «работных людей» на Шахтаминских промыслах были заводские служащие («бергалы») комплектовались из двух групп:
а) зачисленные вместо рекрутчины в рабочие;
б) рабочие, приписанные к заводам.
В их число входили и бывшие каторжники. Чёрнорабочие получали жалование и кормовые одинаково с ссыльнокаторжными, специалисты горного дела (уставщики, разные мастера) имели жалование от 36 до 90 рублей. Семейным так же выдавался провиант по два пуда в месяц на жену и малолетних детей: до 12 лет на ребят и до 16 лет на девиц.
С 12-ти лет подростки шли работать разборщиками руды, а с 15-ти приводились к присяге и определялись на действительную горную или заводскую службу. Положение служащих в некоторых случаях было хуже, чем у каторжан. При двухсменных работах служащие работали, в основном ночью. Служащие «честного имени» с 1849-го года трудились 35 лет, а потом увольнялись в отставку с ничтожной пенсией. Часть мастеровых переводили с заводов на прииски и обратно, что мешало заводским служителям обзавестись семьёй и хозяйством. На Шахтаминских промыслах холостые рабочие жили в особом здании с помещениями на 500 человек, где ими заведовал староста из особых урядников. Он имел заработок такой, как и у ссыльнокаторжных. В его обязанности входило получать на артель из казны припасы и вещи, кормовые деньги, на которые опять же из казны покупали так называемый приварок: говядину, масло и т. д. Семейные получали жалование и кормовые на руки и жили в собственных домах, представлявшие из себя небольшие избёнки и землянки.
Определённое количество заводских служителей так же бежало с работ. В 1858-м году в Нерчинском округе со всех золотых приисков бежало 77 человек (4,6% от общего количества). Тюремный инспектор Озерский писал, что побег «последних – отдых и бродяжничество». Очень часто бежали от жестокости собственного начальства, несмотря на то, что, после трёхдневной отлучки казённые мастеровые предавались военному суду и подвергались наказаниям, в том числе и телесным, которое записывалось в личный формуляр. Есть данные, что наказанный шпицрутенами по выслуге лет не получал даже пенсии.
Еще одна категория рабочих – так называемые «конные урочники» – это были семейные, имеющие хозяйство люди, притом далеко живущие от промыслов, которые должны были выполнять урочные земляные работы в летнее время. Урок составлял 50 кубических саженей и представлял отвозку торфа, грунта, мелких камней на отвалы. По словам С. Е. Боголюбского «старательный урочник с двумя лошадьми и одним работником справлялся со своим уроком в течение двух месяцев. После этого остальное время рабочий был свободен и, получая от казны содержание деньгами и хлебом на себя и семейство, мог заниматься землепашеством и различными промыслами: рыбалкой, охотой и т.п.»
Существовали ещё «половинные урочники». Так называли слуг местных служащих (смотрителей, штейгеров и т.д.), которые были обязаны за этих людей, находящихся у них, сделать половинный урок.
Все три группы рабочего населения существовали на Шахтаминских промыслах до 1864-го года, когда царь «всемилостивейше соизволили подарить Шахтаминское месторождение россыпного золота генерал-адъютанту Адлербергу и наследникам поручика Бенардаки за особые заслуги при царском дворе», которые сдали Шахтаму в аренду, а работали на ней вольнонаёмные старатели.3
Таким образом, на Шахтаминских промыслах трудились различные категории рабочих от ссыльнокаторжных до вольнонаемных. Труд их был тяжел и положение в большей степени бесправно. Кабинет Его Императорского Величества извлекал только прибыль с этих промыслов и не беспокоился о нормальном существовании рабочих. Отсюда, можно согласиться с современным исследователем проблем Сибири Домешеком, который приводит слова следующего характера: «Сибирь для царской администрации была лишь источником прибыли, к нему относились как барышня к своему дальнему поместью: с него можно было только взять, а вкладывать туда необязательно…»
Литература:
Свод Учреждений и Уставов о ссыльных //Свод законов Российской империи. Т. 14. – СПб., 1832.
Балабанов в. Ф. История земли Даурской. – Чита, 2003г.
Боголюбский С. Е. Взгляд на Шахтаминские золотые промыслы. Записки Сибирского отдела императорского Русского географического общества.– Санкт-Петербург, 1856г.
Васильев А. П. Забайкальские казаки.– Чита, 1916г.
Казанцев В. И. Шахтама (к 160-летию открытия Шахтаминского месторождения). Шелопугинские вести №15(116) 2008г.– Шелопугино.
Семевский В. Из истории обязательного горного труда. Русское богатство №1 1894г.-Санкт-Петербург.
Черкасов А. А. Шахтама. Из записок сибирского охотника. – Иркутск, Восточно-Сибирское издательство, 1987г.
Степанова Н.Г. (Шенмайер) Каторга первой половины XIX в.: проблема формирования новой концептуальной модели российского законодательства. / Сибирская ссылка. Сборник научных статей. Иркутск, «Оттиск» – 2004 г., стр.160-161
Боголюбские. Литературная премия «Иду на грозу» 2021.
Протоирей.
Выражаю искреннюю благодарность Александру Юрьевичу Литвинцеву, директору Нерчинского краеведческого музея за предоставленные материалы.
В 1836 году Симеон Боголюбский возвращался в родные места. Он ещё не привык к новой фамилии и новому назначению. Семён Ефремович Малков родился в 1614 году в семье потомственных священнослужителей и был коренным забайкальцем. Его прадед Мартемьян Кузьмич Малков вместе с братом Иваном покинул город Сольвычегодск в первые года царствования Петра Великого. Малков поселился в остроге Доронинском, где стал приказчиком купца Носырева. Мартемьян Кузьмич был человек грамотный: умел читать и писать, знал часослов и псалтырь. Малков женился на дочери купца Анне, а когда Герасим Носырев построил в Доронино церковь, то он решил поставить своего зятя священником в новом храме. Они съездили в Иркутск, где по ходатайству купца Святитель Иннокентий рукоположил Мартемьяна Кузьмича в сан священника Доронинской Богородицкой церкви. Отец Семёна, Ефрем Семёнович Малков, служил дьячком при храме в Куке. Он был разжалован в из священников в дьячки, так как женился во второй раз и тем самым нарушил правила, установленные для священников. В роду Малковых всегда радели о воспитании и образовании детей. Не был исключением и Ефрем Семёнович. Своего подросшего сына он отправил учиться в Иркутскую гимназию, единственное среднее учебное заведение в Восточной Сибири. После окончания гимназии в 1834 году Семён был зачислен в студенты Иркутского духовного приходского училища, где его сразу назначили учителем во второй класс. Через два года он закончил семинарию и как один из лучших выпускников получил назначение в высшее отделение Нерчинского духовного уездного училища преподавателем греческого языка, а впоследствии одновременно исполнял обязанности инспектора и смотрителя этого учебного заведения.
С начала 18-го века вплоть до середины 19-го многим учащимся духовных учебных заведений присваивались другие, часто искусственно образованные фамилии. Фантазия духовных наставников была столь же неограниченна, как и власть их над учениками. Именно в Иркутской семинарии Семён Малков стал Симеоном Боголюбским в честь князя Андрея Боголюбского, ярого защитника православия. Эта фамилия закрепилась за потомками протоирея. В тридцатые годы 19-го года подлинным культурно-просветительским центром Восточного Забайкалья становится Нерчинск, где сложился кружок образованной молодёжи. В кружок входили учителя Нерчинского уездного училища И. И. Голубцев, В. В. Паршин, А. А. Мордвинов, молодой купец М. А. Зензинов, сын чиновника Н. И. Бобылев и другие. В ряды молодых образованных людей органично влился преподаватель духовного училища С. Е. Боголюбский вместе со своим коллегой К. К. Стуковым.
В реакционное, как пишут историки, правление Николая I образованные, благонамеренные обыватели занимаются развитием родного края. По словам краеведа Е. Д. Петряева эти люди «интересовались историей края, работали в местном архиве, записывали предания стариков, образцы устного творчества бурят, собирали разнообразные естественно-научные экспедиции».* Вначале С. Е. Боголюбский интересуется филологическими изысканиями, потом вместе с Зензиновым увлекается ботаникой, занимается земледелием, в котором практическая сметка хлебороба-практика опирается на научные знания. Он становится талантливым агрономом и одним из первых пчеловодов Забайкалья.
Со временем у молодого преподавателя происходят изменения в личной жизни. В августе 1838 года Семён Ефремович женится на Татьяне Афанасьевне Белокопытовой. 11 февраля 1839 года Боголюбский был посвящён в диаконы, а 12февраля того же года в сан священника Градо-Нерчинского Воскресенского собора. После одиннадцати лет жизни в Нерчинске о. Симеон был переведён на вакансию протоирея в Нерчинско-Заводском Богоявленском соборе. В 1847 году его рукоположили в сан протоирея и одновременно назначили благочинным церквей Нерчинско-Заводского округа и Донинской Единоверческой церкви, что в пересчёте на километры составляет территорию среднего европейского государства. Дважды в год протоирей объезжал подведомственные ему приходы, посещал каторги, занимался миссионерством, помогал строить церкви. Симеон Ефремович был рекомендован губернатору Восточной Сибири Н. Н. Муравьёву как человек хорошо знавший край, местную жизнь, обычаи. Он неоднократно встречался с Муравьёвым-Амурским, поддерживал с ним переписку. Николай Николаевич оказал весомую поддержку при увольнении сыновей протоирея Иннокентия и Николая из духовного сословия и реальную помощь при поступлении Кеши в институт Корпуса горных инженеров.
Губернатор готовил присоединение Амурского края, что будоражило сибирское общество открывавшими, в ближайшем будущем, перспективами. С. Е. Боголюбский всемерно поддерживал Муравьёва. Он вспоминал: «При первом известии о снаряжении экспедиции на Амур во всех сословиях Забайкалья пробудились былые воспоминания об отважных подвигах Амурских удальцов-казаков, ещё не умерших в памяти народной; воскресли блистательные надежды на возвращение богатого и плодоносного Амурского края и Албазина, на лучшую будущность, на развитие торговли и промышленности при открытии водяного сообщения с океаном. Амур – это путь прямой из света старого в новый; Амур – для России дело великое!»**
В 1851 году протоирей вновь занялся преподаванием. На этот раз он вёл занятия по Закону Божиему и латинскому языку в трёхклассном окружном горном училище Нер-Завода, вёл так же сбор лингвистического материала, связанного с «забайкальским наречием», лично собирал образцы для минералогических коллекций и отсылал их в Петербург, самостоятельно изучал горное дело, хорошо разбирался в механике и гидравлике. За свои труды о. Симеон был избран членом Восточно-Сибирского отдела императорского Русского географического общества. В 1854 году он предоставил редакционной комиссии доклад «Взгляд на Шахтаминские золотые промыслы», который получил высокую оценку специалистов, был напечатан и до сих пор находится в научном обороте. С. Е. Боголюбский помогал дальнейшему развитию образования в доверенном ему округе. При его активном участии в Нер-Заводе и Алек-Заводе были открыты женские училища, о чём он писал в иркутскую газету. Дал он подобающее образование и своим дочерям. Нужно отметить, что к концу XIX века 87% учебных заведений в Забайкалье принадлежало церкви. Её роль в налаживании народного образования неоценима.
В начале 50-х годов протоирей начинает готовить своих сыновей к экзаменам в Горный институт. Часть предметов преподаёт сам, а так как знающих преподавателей в Нерчинском Заводе было мало, то он приглашает в качестве учителей своим сыновьям политических ссыльных. Симеон Ефремович не жалея сил и явно рискуя навлечь на себя неудовольствие властей тесно общался с политическими, навещал их в различных рудниках и посёлках, но он подчёркнуто отмежёвывался от взглядов ссыльных, даже в письмах повторял, что «их убеждения нас не касаются». Среди учителей Иннокентия и Николая Боголюбских был даже М. В. Буташевич-Петрашевский.
В 1855г. – Иннокентий, а в 1859г. – Николай поступают учиться на горных инженеров и, хотя они находятся в Санкт-Петербурге, отец помогает им деньгами и советами. Он, например, советовал читать наряду с учебной литературой духовные книги. Из списка, составленного протоиреем для сыновей, лично я нашёл всего два знакомых названия: «Псалтирь» и «Новый Завет». Своему сыну Кеше о. Симеон писал: «…Подчас, иногда завидую твоей регулярной жизни и непрестанной умственной деятельности, без всяких житейских попечений, часто отравляющих жизнь». Много ли найдётся 45-летних современных отцов, чтобы вот так, исподволь, по-дружески подсказать своим детям, что порочно прожигать жизнь, стремясь к праздности и удовольствиям?
В 1855 году семья Боголюбских понесла невосполнимую утрату. В результате неловкого падения зимой после продолжительной болезни скончалась жена о. Симеона Татьяна Афанасьевна. Её неудачно лечил ссыльный поляк Бопре. Протоирей стал вдовцом и в одиночку воспитывал шестерых детей. Он большое внимание оказывает обширному домашнему хозяйству: возделывает пашню, занимается огородничеством, пчеловодством, выращивает скот, ремонтирует жилой дом в Нер-Заводе. В письме сыну Боголюбский С. Е. пишет: «Весна стоит благодатная… Посеяно у нас: одна десятина польской пшеницы, пять десятин ярицы, одна десятина овса, ½ десятины ячменя, ½ десятины гречухи, итого восемь десятин. Картофеля посажено 18 грядок. Конопли 1/8 десятины…»
В 1862 году в Чите (1-14 октября) проходила выставка сельскохозяйственных продуктов и промышленных изделий области. Экспертом был старый знакомый протоирея М. А. Зензинов. Отец Симеон был участником выставки и его отметили похвальным отзывом «за множительные труды на пользу местного хозяйства». Однако он остался не удовлетворён результатами выставки, считая, что его экспонаты заслуживают более высокой оценки. Справедливость этих притязаний оправдалась в том же году. В столичных газетах появилось сообщение о том, что «на выставке в Лондоне, проходившей 1-8 октября 1862г. протоирей из Забайкалья Семён Ефремович Боголюбский получил медаль «За семена хлебов превосходного качества». Можно подсчитать расстояние от Нер-Завода до Лондона. Не забывал о. Симеон другие свои увлечения. В 1864 году в «Русских ведомостях» № 97 была напечатана статья протоирея «О пчеловодстве в Забайкальской области» – одна из первых научных статей.
В 1874 году Симеон Ефремович Боголюбский скончался, заслужив церковные и государственные награды, в том числе орден Святой Анны 3-й степени, что делало его личным дворянином. Но дело не в наградах. Полтораста лет назад жил в Забайкалье священник, имел на руках не только собор, причт, приход, но и целое благочиние. Он занимался миссионерством, работал учителем, собирал коллекции минералов и семян для Петербуржской академии наук и для русских и международных выставок, воспитывал в одиночку шестерых детей, был желанным гостем и участником собраний общественности. Этот уникальный человек вёл обширное хозяйство, совершал поездки в различные города и посёлки Иркутской губернии и Забайкалья, печатался в областных и центральных изданиях, изыскивал возможности пополнить свою библиотеку и занимался множеством дел, не свойственных духовному лицу.Таких людей и раньше, и сейчас называют «соль земли русской!»
Примечания.
* Петряев Е. Д. Исследователи и литераторы старого Забайкалья. Чита,1954, стр. 146.
** Барсуков И. Граф Николай Николаевич Муравьёв-Амурский М., 1891, стр. 358-359.
Старший сын.
Боголюбский Иннокентий Семёнович родился 25 февраля 1841года и был вторым ребёнком в семье протоирея. Отец ласково звал его «Кенюшкой» Он возлагал на него большие надежды, будучи уверен, что сын пойдёт по его стопам. Архиепископ Иркутский Нил содействовал поступлению Кеши в Иркутское духовное училище, а потом, по просьбе о. Симеона, помог в увольнении сына из духовного звания, когда Иннокентий выразил желание учиться на горного инженера. Симеон Ефремович тяжело переживал поступок сына, в котором видел наследника своих дел, своего звания. До поступления в Корпус горных инженеров Иннокентию и его младшему брату Николаю преподавали на дому известные ссыльные, включая Буташевич-Петрашевского. Справедливости ради нужно сказать, что по некоторым предметам с мальчиками вёл занятия отец. Дети оказались способными и хорошо подготовились к экзаменам, которые состоялись в Нерчинском Заводе. Протоирей добился содействия графа Н. Н. Муравьёва в устройстве сына в Корпус Горных Инженеров. Тринадцатилетним юнцом Кеша отправился на учёбу в Санкт-Петербург. Путешествие в столицу из Нер-Завода заняло два с половиной месяца. Практически весь период учёбы Иннокентий продолжал пользоваться покровительством архиепископа Нила, который стал архиепископом Ярославским и генерала А. Д. Озёрского, хорошо знавшего его отца по службе в Забайкалье, где Александр Дмитриевич в чине полковника в 1852-1853г.г. проводил ревизию горнозаводской промышленности. Кеша, отличаясь природными способностями, был натурой увлекающей, порой в ущерб успеваемости по основным предметам. Кроме того, настроение либеральной части столичного общества оказало на кадета большее влияние, чем письма отца. Скорее всего, Иннокентий заразился духом либерализма, неуважения к властям ещё раньше от своих домашних учителей из числа ссыльных. Сын явно грешил знакомством с «вольнодумцами», отходил от веры в бога, следуя модным увлечениям петербуржской молодёжи, что не могло сказаться на результатах учёбы. Помимо всего перечисленного Царёв В., потомок Боголюбских, пишет, «что есть несколько косвенных замечаний в его письмах, которые дают право читателю предположить «сердечную драму», «неразделённую любовь» или что-то в этом духе». Впоследствии Иннокентий так и не женился.

