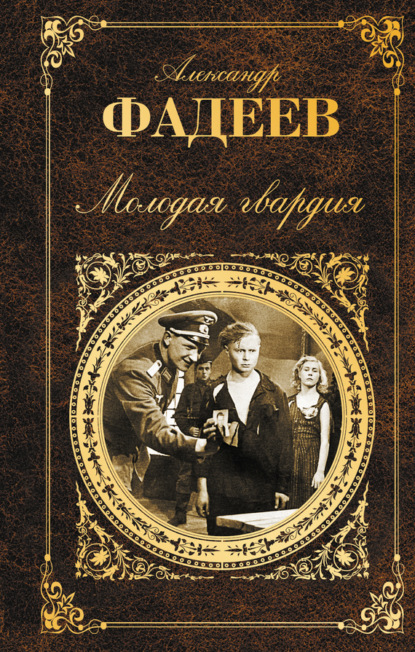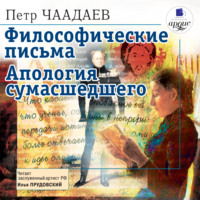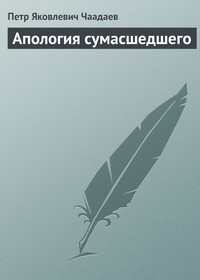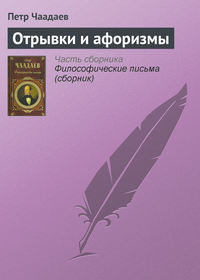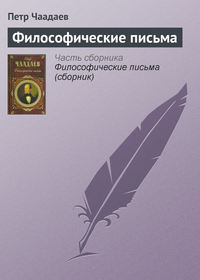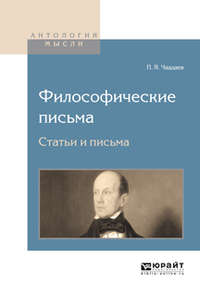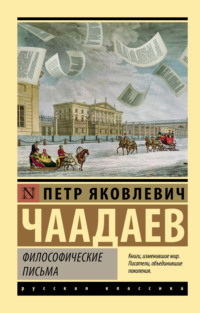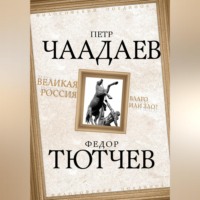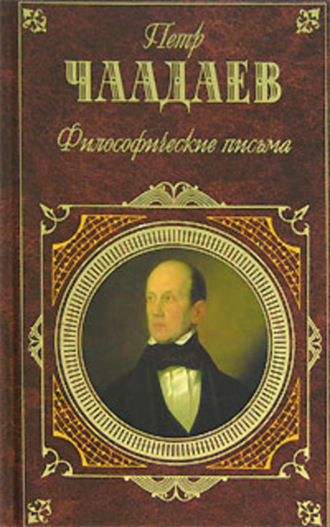 полная версия
полная версияФилософические письма (сборник)
Надо заметить, что архитектура, еще ныне зримая на берегах Нила, – без сомнения, старейшая в мире. Есть, правда, древность еще более отдаленная, но не для искусства. Так, циклопические постройки, и в том числе индийские, наиболее обширные в этом роде, представляют собою лишь первые проблески идеи искусства, а не произведения искусства в собственном смысле слова. Поэтому с полным правом можно утверждать, что египетские памятники содержат в себе первообразы архитектонической красоты и первые элементы искусства вообще. Таким образом, египетское искусство и готическое искусство действительно стоят на обоих концах пути, пройденного человечеством, и в этом тождестве его начальной идеи с тою, которая определяет его конечные судьбы, нельзя не видеть дивный круг, объемлющий все протекшие, а может быть, и все грядущие времена.
Но среди разнообразных форм, в которые попеременно облекалось искусство, есть одна, заслуживающая, с нашей точки зрения, особенного внимания, именно готическая башня, высокое создание строгого и вдумчивого северного христианства, как бы целиком воплотившее в себе основную мысль христианства. Достаточно будет немногих слов, чтобы уяснить вам ее значение в области искусства. Вы знаете, как прозрачная атмосфера полуденных стран, их чистое небо и даже их бесцветная растительность способствует рельефности очертаний греческих и римских памятников. Прибавьте сюда этот рой прелестных воспоминаний, которые витают и группируются вокруг них и окружают их таким ореолом и столькими иллюзиями, – и вы получите все элементы, составляющие их поэзию. Но готическая башня, не имеющая другой истории, кроме темного предания, которое старая бабушка рассказывает внучкам у камелька, столь одинокая и печальная, ничего не заимствующая от окружающего, – откуда ее поэзия? Вокруг нее – только лачуги да облака, ничего больше. Все ее очарование, значит, в ней самой. Это, мнится, – сильная и прекрасная мысль, одиноко рвущаяся к небесам, не обыденная земная идея, а чудесное откровение, без причины и задатков на земле, увлекающее вас из этого мира и переносящее в лучший мир.
Наконец, вот черта, которая окончательно выразит нашу мысль. Колоссы Нила, так же как и западные храмы, кажутся нам сначала простыми украшениями. Невольно спрашиваешь себя: к чему они? Но, присмотревшись ближе, вы заметите, что совершенно так же обстоит дело и с красотами природы. В самом деле: вид звездного небосвода, бурного океана, цепи гор, покрытых вечными льдами, африканская пальма, качающаяся в пустыне, английский дуб, отражающийся в озере, – все наиболее величественные картины природы, как и изящнейшие ее произведения, точно так же сначала не будят в уме никакой мысли о пользе, вызывают в первую минуту лишь совершенно бескорыстные мысли; между тем в них есть полезность, но на первый взгляд она не видна и только позднее открывается размышлению. Так и обелиск, не дающий даже достаточно тени, чтобы на минуту укрыть вас от зноя почти тропического солнца, не служит ни к чему, но заставляет вас поднять взор к небу; так великий храм христианского мира, когда в час сумерек вы блуждаете под его огромными сводами и глубокие тени уже наполнили весь корабль, а стекла купола еще горят последними лучами заходящего солнца, более удивляет вас, чем чарует своими нечеловеческими размерами; но эти размеры показывают вам, что человеческому созданию было дано однажды для прославления бога возвыситься до величия самой природы[384]. Наконец, когда тихим летним вечером, идя вдоль долины Рейна, вы приближаетесь к одному из этих старинных средневековых городов, смиренно простершихся у подножия своего колоссального собора, и диск луны в тумане реет над верхушкой гиганта, – зачем этот гигант перед вами? Но, может быть, он навеет на вас какое-нибудь благочестивое и глубокое мечтание; может быть, вы с новым жаром падете ниц перед богом этой могучей поэзии; может быть, наконец, светозарный луч, исходящий от вершины памятника, пронижет окружающий вас мрак и, осветив внезапно путь, вами пройденный, изгладит темный след былых ошибок и заблуждений! Вот почему стоит перед вами этот гигант.
А после этого идите в Пестум и отдайте себе отчет во впечатлении, которое он произведет на вас. Вот что с вами случится: вся изнеженность, все соблазны языческого мира, приняв самые обольстительные свои формы, внезапно встанут толпой вокруг вас и опутают вас своей фантастической сетью; все воспоминания о ваших безумнейших утехах, о самых пламенных ваших порывах проснутся в ваших чувствах, и тогда, забыв ваши искреннейшие верования и задушевнейшие убеждения, вы помимо собственной воли будете всеми фибрами вашего земного существа обожать те нечистые силы, которым так долго в опьянении своего тела и души поклонялся человек. Ибо и прекраснейший из греческих храмов не говорит нам о небе; приятное чувство, которое внушают нам его прекрасные пропорции, имеют целью лишь заставить нас полнее вкушать земные наслаждения; храмы древних представляли собою, в сущности, не что иное, как прекрасные жилища, которые они строили для своих героев, ставших богами, тогда как наши церкви являются настоящими религиозными памятниками. И потому лично я испытал, признаюсь, в тысячу раз больше счастия у подножия Страсбургского собора, нежели пред Пантеоном или даже внутри Колизея, этого внушительного свидетеля двух величайших слав человечества: владычества Рима и рождения христианства. Госпожа Сталь сказала как-то, говоря о музыке, что она одна отличается прекрасной бесполезностью и что именно поэтому она так глубоко волнует нас. Вот наша мысль, выраженная на языке гения; мы только проследили в другой области тот же принцип. В общем, несомненно, что красота и добро исходят из одного источника и подчиняются одному и тому же закону, что они являются таковыми лишь в силу своей бескорыстности, что, наконец, история искусства – не что иное, как символическая история человечества.
Отрывок из исторического рассуждения о России[385]
В прошлом году напечатана в «Москвитянине» статья г. Хомякова «О сельских условиях»[386]. Статья эта написана для тех помещиков, которые пожелают вступить с своими крестьянами в сделку, упрочить их будущность, а вместе с тем и обеспечить свое достояние.
Мы уверены, что в этом отношении в ней заключается очень много поучительного. Но это до нас не касается. Мы на сей земле не имеем ни клочка земли, ни одной души, которую бы нужно было оградить от злоупотреблений помещичьей власти и вручить отеческому попечению земских властей; мы почитаем себя совершенными невеждами в деле сельского хозяйства, но мы принимаем живое участие в умственном движении нашего отечества, но мы любим изучать его историю; вот почему статья эта имеет для нас особенную важность, вот почему мы хотим о ней сказать несколько слов.
Что всего более нас в ней поразило – это глубокое познание отечественной древности, свежий взгляд на старый наш быт. На второй странице находим следующие замечательные слова: «русский быт, органически возникший из потребностей местных и из характера народного, заключает в себе тайну русского величия». И точно так. Чем более размышляешь о географическом развитии нашей России, тем более в том убеждаешься, что с первых дней ее существования уже таилось в душе ее что-то такое, которое обещало ей это огромное, это беспримерное развитие, какой-то здравый смысл, какой-то ум в понятиях гражданских чудно отмечает наших предков. Первые лета жизни народов всегда бывают ознаменованы необузданным своеволием, которое потом постепенно укрощается возрастающей гражданственностью, но вместе с тем и проникает в сердце народа, делается в ином виде стихией его жизни и, несмотря на усилия созревающего народного рассудка, от времени до времени вновь проявляется и колеблет общество. У нас ничего нет подобного. Первое событие, положившее, кажется, вечную печать свою на лице народа, есть призвание варягов. Глубоко постигнув уже в младенчестве своем неудобство безначалия, народ русский посылает за князем за море, к чужому племени и с редким смирением поручает ему сказать: «Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет, да пойдете у нас княжити и володети». Смело можно сказать, что нет народа, которого бы летопись открывалась таким дивным подвигом самоотвержения и ума. С самого начала бытия своего народ русский вручает судьбы свои соседственному мудрейшему племени, родоначальнику того славного царственного рода, под сенью которого ему суждено было достигнуть своего великого значения. Тут нет насилия со стороны нового государя, нет срама народу, который добровольно, обдуманно отрекается от своего первобытного управления и повергается к стопам державного избранника. С той поры народ и род княжеский – составляют одну семью, и ни разу во все продолжение этой продолжительной семейной повести вы не увидите ни малейшего раздора между государем и народом: вечное детское повиновение, вечное родительское попечение правителей о быте общем. В одном только углу необъятной русской земли видим крамольный город[387], горестно обезображивающий наши летописи. Но благодаря богу этот город, рано заразившийся духом Запада и какой-то ересью иноплеменных, не дожил до нас; ужасная кара из рук наших славных Иоаннов постигла сего недостойного члена покорной семьи и на месте том в поучение потомству стоит теперь унылый посад, где нет и памяти про старые буйные годы.
Странное дело! Составители нашей истории не обратили почти никакого внимания ни на важность события, которым начинается наша гражданская жизнь, ни на простодушный многозначущий рассказ, нам его сохранивший. Знаменитый наш историограф[388], признав, как и мы, что «начало российской истории представляет едва ли не беспримерный в летописи случай», прибавляет к этому только то, что «мы не должны этого стыдиться». Народу могучему, народу великому, обладающему пятой частью земного шара, смешно было бы стыдиться своего начала, каково бы оно ни было; но, изучая летописи своей протекшей жизни, он должен, как и всякий другой, стремиться к ясному и верному постижению своего естества, а не к удовлетворению своего суетного тщеславия. Первый шаг народа на пути, ему предлежащем, почти всегда решает его участь. Народ, который начинает свое поприще добровольным, благородным отказом, отречением от своей беспредельной воли, всегда будет готов на великие пожертвования, не будет сам творить судеб, но будет им покоряться великодушно; не будет сам созидать своих гражданских уставов, а будет их принимать из рук своих мудрых самодержцев; в годины напасти будет велик своим многотерпением, в дни торжества знаменит своей кротостью; одним словом, он воздвигнет свое величие на безусловной своей покорности к провидению и к своим царям. Посмотрим, так ли было у нас.
Другое великое событие нашей юности есть введение в отечестве нашем святой православной веры. Везде, куда вначале ни проникал свет божественной истины, везде встречал он сильное сопротивление умов, закоренелых в суевериях языческих, везде видим при распространении христианства или кровавый бой между прошлыми верованиями и новыми в виде сил земных, или упорный спор одних умов и торжество слова божия. Но ни того, ни другого не увидите при вступлении веры Христовой на землю русскую. Вот каким образом рассказывает преподобный летописец обращение наших предков: «Володимер посла по всему граду, глаголя, аще кто не обрящется заутра на реде, противник мне да будет. Се же слышавше, люди с радостью идяху, и радующееся глаголяху: аще се не добро было, не бы сего князь и бояре прияли». Итак, без борьбы и без благовести водворилась у нас вера Христова, достаточно было одной державной воли, чтобы все сердца склонить к этим новым понятиям. Но зато как стройно, как разумно созрело у нас святое семя. Во время, когда по всему Западу носилась проповедь церкви честолюбивой, когда там умы вооружались друг против друга за свои страстные убеждения и народы шумно подвизались на неверных, тогда мы, в тихом созерцании, питались одною святою молитвою; не спорили о сущности учения Христова, не помышляли оружием обращать во мраке бродящих народов, на отлученных братиев глядели с любовью и в скромном сознании своей немощи принимали своих верховных пастырей из рук царей просвещенной Византии. Должно признаться, что в истории ума человеческого нет поучительнее той картины, которую представляют эти первые годы нашей духовной жизни, особенно если вспомнить, при каких именно условиях к нам проникло христианство. Размышляя об этом предмете, вот как выражается один из знаменитейших наших святителей: «Не удостоилась Россия, чтобы в ней насаждена была вера Христова божественными руками апостолов и утвердилась в ней так, как в древних странах мира: сие было бы основание святое и семя учения евангельского непорочное и плодоносное; и хотя сия вера православная и по существу своему евангельскому учению сообразная, но через течение многих лет и разных раздоров уже настолько была близка к той простоте и чистоте, каковою была благословлена первенствующая церковь апостольская». И что ж, несмотря на все это, ни в каком краю мира не принесла вера Христова таких удивительных плодов, как в России, никогда не являлась она столь могущею, столь благодатною, как в то время, когда просияла над нашим отечеством! Всякому известно, что христианство, распространяясь на земле, везде ступало или на высокое образование, или по крайней мере на еще не изглаженные его следы; у нас же оно нашло одно необъятное пространство, еще вовсе в себе тогда не заключавшее той необъятной мысли, которая, по словам великого поэта, теперь в нем таится, и в этой-то пустоте сотворило оно нашу великую, нашу святую Русь! Чудно, непостижимо. Целый народ, одним христианством созданный. Невольно спросите себя, чем заслужили мы такое чрезвычайное преимущество над всеми прочими народами мира? И видим далее, что мы точно его заслужили, что не было народа, которого бы сложение столь способствовало развитию некоторых доблестей христианских, сколько наше, и что по этому самому мы, вероятно, были избраны провидением на то, чтобы явить свету пример народа чисто христианского.[389]
И вот настала для нашего отечества година испытания. В глубокой дали раз послышалось страшное имя татар; и разлились их полчища по нашим беспредельным равнинам, и развеяли все наши начинания на пути всемирной образованности. Сколько нам известно о состоянии России до того дня, как разразилась над ней эта грозная туча, особенно с тех пор, как ученые изыскания наших молодых археологов[390] озарили совершенно неожиданным светом этот темный период нашей истории, Россия уже тогда достигла высокой степени просвещения, несмотря на свои удельные раздоры и на беспрестанную борьбу с соседственными дикими племенами. И немудрено. Из цветущей Византии осенило нас святое православие; а там еще в то время не отжила свой век мудрость эллинская, не отцвели художества; там, сквозь затейливые мудрования греческого ума, еще пробивался в гражданском законе высокий смысл римской; там нередко любомудрие украшалось венцом царским, а на престоле первосвятительском сияли мужи необычайной учености; туда уже в то время проникла роскошная жизнь Востока и обвилась около жизни христианской; наконец, власть государственная, долженствовавшая впоследствии столь величественно развиться в нашей благополучной стране, уже образовалась там почти в святыню и, таким образом, уготовила разъединение Востока христианского с Западом христианским, где, напротив того, чин духовный стал превыше всех иных чинов и поработил себе все земное. Одним словом, со светом святого православия проник к нам и свет премудрого Востока. Вот отчасти почему так быстро созрела наша юная образованность. Но еще другая была тому причина, не замеченная нашими историками-философами.
В то время, когда народ русский вступил на поприще истории, разъединение христианского мира еще не было вполне совершено. Запад, в которого жизнь взошло такое множество разнородных стихий, боролся, но не всегда успешно, с стихиями, противными новому святому началу, и воспринимал в себя с ним дружные. Он веровал глубоко, но вместе с тем и рассуждал; он давал волю сомнению как средству, как методе и потому иногда заблуждался, но в то же время и приобретал чрезвычайные силы мышления; одним словом, он неимоверными усилиями и подвигами ума и духа вырабатывал все, что нашел у себя, и изощрял орудия разумения человеческого. Известно, что задача того времени состояла в том, чтобы пересоздать мир на христианских началах. Для этого, конечно, нужно было многое сокрушить, но должно было также и многое сохранить. История народов сызнова не перечинается, ум человеческий не в силах совершенно отрешиться от своих естественных начал и отправиться с точки совершенно новой; изо всех же понятий, которых христианство застало на земле, понятие о всемирном государстве Римском было самое всеобщее; таким образом, на всемирном престоле кесарей воссел всемирный пастырь, всемирная религия наследовала всемирной державе. Судьбы рода человеческого таинственно уготовлялись до пришествия спасителева. Рим, включивший в себя все человеческое понятие, уже вышел тогда из пределов своей языческой народности, стал постигать и созидать человечество и как бы в предведении того великого события, которое должно было совокупить все народы в один народ христианский и все царствия в одно царствие божие, назвал себя миром; церковь же Христова, в этом мире возникшая, его сознала так, как он сам себя сознавал, и на его земных основаниях соорудила свои земные основания. Должно полагать, что это первобытное ее сооружение не было противно евангельскому учению. В области чистой правды внешнее нераздельно с внутренним, так как в самом Христе, высочайшем ее знамении, человеческое нераздельно с божественным; а смешно и подумать, чтобы божие дело, с самого зачатия своего, уже отклонилось от правды. Главная, преобладающая мысль этого первоначального состава церкви заключалась в глубоком понятии, неведомом человечеству, о единстве небесного закона и о необходимости этого единства; а эта мысль, подчинившая себе все наружные виды религии в одном полушарии возрожденного света, упорно там сохраняемая, и к нам проникла в то время, как мы в него вступили. Беспрестанные, дружеские и родственные сношения со всеми почти государствами Европы питали в нас чувство общего гражданства христианского и, вероятно, приносили к нам множество светлых понятий. Получив из нового Рима семена христианского учения и продолжая из рук его принимать первосвятителей, мы, кажется, чуждались его престольного соперничества с старым Римом, с которым пребывали в братском общении почти до самого того времени, как монгольская вьюга отторгла нас от Запада и создала нам особую жизнь в наших полуночных улусах.
Но это бедственное во многих отношениях отторжение в других отношениях было нам полезно. Тут-то, в нашем невольном одиночестве, совершилось наше воспитание, созрели все те высокие свойства народные, которых семена до того времени невидимо таились в русском сердце. С непостижимым, с истинно христианским смирением приняли мы это тяжкое, невиданное на земле иго…[391]
Воскресная беседа сельского священника, Пермской губернии, села Новых Рудников[392]
Глаголю вам, будобее велбуду сквозь иглины уши пройти, нежели богату в царствие божие внити.[393]
Дома ваши, братья, каждодневно наполняются златом, извлекаемым из недр земли нашей, обильной многоценными дарами, но сердца ваши не преисполнены еще корыстью безмерною; вы трудитесь ради земных благ своих, но не забываете и неимущих своих братьев, лишенных этих благ. Почем знать, однако ж, сохраните ли вы любовь свою к ближним и на будущие времена и тогда, когда в услаждениях роскоши уже утратятся, может быть, сердечные чувства ваши, воспитанные среди собственных лишений? Итак, да услышите ныне истину, которая может быть завтра уже недоступна будет сердцам вашим.
Кому из вас не известны слова спасителевы, избранные нами поучением на нынешний день: «Глаголю вам, будобее велбуду сквозь иглины уши пройти, нежели богату в царствие божие внити»; но какой смысл приписываете вы этим словам? Почти никакого. Однако смысл этот, кажется, довольно ясен. Если не ошибаемся, то верблюду вовсе нельзя пройти в уши иглы: следовательно, и богатому вовсе нельзя войти в царствие божие. Скажут, для совершенного уразумения какого-нибудь отдельного поучения евангельского недостаточно вникнуть в смысл одного этого поучения, надобно также сообразить с ним и прочие евангельские наставления, до того же предмета относящиеся. Пусть так. Посмотрим же, что заключается в последующих словах Христовых, на которые, между прочим, обыкновенно ссылаются некоторые заступники стяжателей благ земных и которые не что иное, как продолжение того же самого поучения. На вопрос учеников: «Если так, то кто же спасен будет?» – сын божий ответствует: «Что невозможно человеку, то возможно богу». Неужто слова эти смягчают суд, произнесенный им над богатым? Нам кажется, напротив того, что они его усиливают. Не явствует ли из них, что богатому нельзя иначе обрести царствия небесного, как тогда только, когда сам бог ему туда отворит врата, то есть сотворит для него чудо всемогущею волею своею, изменит естественный порядок вещей, изгладит порочность богатства, одним словом, сделает возможным невозможное?
Но каким образом совершено будет это чудо беспредельною благостию божиею, чем может богач заслужить его? Прочтите, что перед тем говорит Иисус богатому юноше, который спрашивал его, что надлежит сделать, чтобы обрести спасение, и вы увидите, что для этого недостаточно богачу исполнить все божественные предписания, для каждого иного достаточные, что ему, сверх того, надобно еще раздать все имущество бедным и последовать за Христом, то есть перестать быть богатым. Вы видите, все та же мысль, все тот же строгий приговор над неумеренным стяжанием даров земных, лишь иначе выраженные.
Ученье евангельское нам кажется в этом случае очень просто. Пороки наши и даже преступления изглаживаются пред судом божиим раскаянием или исправлением; в богатстве же раскаяться нельзя, исправиться нельзя; как же избавиться от его пагубного влияния? – Отказаться от него, иного нет средства. Вы богаты и хотите обрести царствие небесное: испросите помощь божию на подвиг великий, отрешитесь от богатств своих, докажите совершенное презрение свое к тем земным благам, которых излишество если и не заключает в себе собственно греха, то всегда и необходимо бывает источником его; без того не видать вам царствия божия; золото ваше есть непреодолимая преграда, вас с ним разлучающая. Одним разрушением этой преграды можете его достигнуть. Но, разумеется, не бросить же деньги в воду, лучше раздать их неимущим, да молят они бога, чтобы предал забвению жизнь вашу, проведенную в избытках изобилия и в услаждениях роскоши, и помнил бы одну теперешнюю жертву вашу, покорность безусловную его святой воле и любовь к ближнему. Тогда, и тогда только, отверзнутся пред вами врата небесные, замкнутые для тех, которые приходят к ним с руками, неомытыми от злата, добытого и прожитого на земле без пользы для ближнего. Повторим же теперь слова Христовы уже с полным и искренним уразумением их смысла: «Глаголю вам, будобее велбуду сквозь иглины уши пройти, нежели богату в царствие божие внити».
Но, убедившись в истинном значении этих слов, не должны мы забывать и того, что если всевышний разум и неумолимо предписывает нашему разуму свой закон, то всевышняя любовь может укротить его ради немощи естества нашего. Да не усомнимся же никогда в смысле этого закона, сколь бы строг он ни был, но вместе с тем и станем питать надежду на благость божию, к молитвам нашим всегда снисходящую, коли она требуется, и многопрощающую милость его к немощам, нас обременяющим! Аминь.
Петр Басманской.
«L’univers». 15 января 1854.[394]
Русские постоянно ставят нам на вид наше невежество по отношению ко всему, что касается их страны. Ну что же: мы охотно готовы признать, что знаем их обширную империю отнюдь не лучше, чем Бирманскую, хотя первая и лежит бок о бок с нами; если хотите, мы даже согласимся, что нет на свете народа, который был нам известен менее, нежели русский; но вопрос о том, как по-настоящему познается народ, все равно, занимает ли он еще место на мировой сцене или уже сошел с нее. Не путем ли изучения народа в его памятниках, в его писателях, не путем ли вопросов, к нему же обращенных, об особенностях, составляющих его природу и отличающих его от других народов мира? А между тем где же эти памятники русского народа, где писатели его, кто вскроет перед нами отличительную черту народа, раскинувшегося между Востоком и Западом и, как утверждают, угрожающего своими честолюбивыми поползновениями и тому и другому? Неужели русские воображают, будто достаточно огромного протяжения страны, чтобы она стала интересною отраслью человеческого знания, чтобы в нас родилось желание узнать язык, законы и быт племен, ее населяющих? Это чистейшее самообольщение народной гордости, и наука отметит его лишь как пример заблуждений народов, предназначенных быть поучением для последующих поколений.