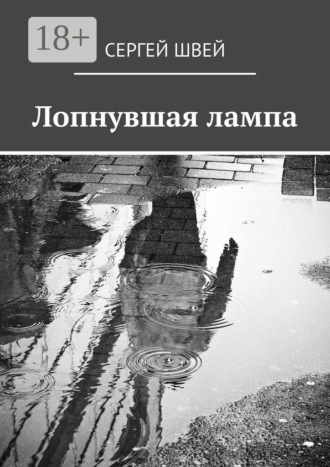
Полная версия
Лопнувшая лампа
Делаю пересадку. Удивительно, что в столь технократическом месте еще остаются места, где человеку могут пригодиться ноги. «Осторожно, двери закрываются!» В новом конструкте больше света, больше пространства. Все вагоны слеплены в одну огромную механическую колбасу. Чтобы скрасить досуг путешественников, а заодно вложить в их разум важные вехи, боковые стенки венчают плазменные панели. Вот прогноз погоды обещает потепление через каких-то жалких тридцать дней. Вот новости-страшилки повествуют об исчезнувшей стайке детей и молят сопричастных и неравнодушных сообщить подробности. А теперь, на контрасте, глянцевые квадраты демонстрируют лучшие видео из интернета: котиков и сопутствующую милоту из вкладки «Тренды».
Сократив дневную норму подземки до часа или часа десяти минут, невольно начинаешь ощущать себя счастливчиком. Что ни говори, а подземелье давит. Оно заманивает нас красотой, комфортом быстрого передвижения, но при этом низводит до насекомых. Мы должны не только пожертвовать свои деньги этому богу – нет, ему этого мало. Мы должны отказаться от солнечного света, отказаться от ветра, от чистого воздуха. Мы должны принять это в сублимированном виде, восторгаться этим и восхвалять, надеясь, что идол еще долго будет одаривать нас своими благами, а мы, скромные слуги, сможем и дальше ублажать его.
Не привлекая лишнего внимания, я протискиваюсь в еще открытые двери. Лавирую между тучным мужчиной средних лет, облаченным в мешковатую куртку, и древней фенольно-фиолетовой заформалиненной старухой в дореволюционной ветоши, которая не по возрасту лихо орудует сумкой-тележкой. Проскальзываю к параллельным дверям, занимая удобный угол и защищая две трети своего личного пространства. Двери с треском захлопываются, и вагонный гомон начинает интенсивно перемешиваться со звуками ударов колес о стыки рельс. Каждый волен сам выбрать средство, чтобы справиться с этой какофонией: кто-то предпочитает по старинке игнорировать ее, кто-то погружается в чарующий голос собеседника, а кто-то, как я, заглушает ее музыкой.
Эта прекрасная лабораторная площадка показывает, насколько прогресс и регресс идут рука об руку. Прогресс технический и регресс личностный. Помню, школьником я вынужден был мотаться в школу через весь город – чего только не заставят делать родители ради лучших учителей и лучших знаний? И, конечно, для своего культурного досуга я, помимо тяжеленных учебников, закидывал в безразмерный портфель тяжеленные художественные книги. Сложно сказать, сколько книг я прочитал таким образом. Бывало, зачитавшись, выходил из вагона и шел, очарованный музыкой строк, представляя героев, тренируя воображение и мешая окружающим. Сейчас книг почти не читают. Местную немногочисленную популяцию книголюбов истребили дикие бараны с гаджетами, привезенными из далеких стран. С врожденным сколиозом, не смотрящие никуда, кроме волшебной глади экрана, они с великим трудом совершают движения, натыкаются друг на друга, теряют свои тела в изолированном пространстве и упорно не дают пройти другим людям. Что уж тут говорить об окружающих, мы уже поняли, что всем просто начхать на ближнего своего, но где же он, двигатель человеческой жизни и судьбы – инстинкт самосохранения? Неужели жирные лемминги не боятся споткнуться, покалечиться или упасть? Что такого судьбоносного может содержаться в этих маленьких коробочках, что мы должны молниеносно и немедленно теребить их пальцами и впиваться в них высохшими глазами? Потеря значимости момента. Девальвация эмоций. И если раньше ты использовал технологии для расширения своей реальной жизни, то теперь они нужны для полной ее замены.
Заботливо не снятый рюкзак попутчика беспардонно толкает меня в плечо, сбивая с мыслей. Юноша, лет двадцати оборачивается и меряет меня взглядом. Как же красноречив его взор! По нему можно легко понять, что это я задеваю драгоценный рюкзак своим некстати оказавшимся тут вместилищем души, да и день молодого человека сложился бы гораздо плодотворней, если бы моя телесная оболочка тут не присутствовала. Он отворачивается, погружая свой взгляд обратно в телефон.
Вот еще один вопрос: как знакомится современная молодежь? В иных обстоятельствах этому субъекту пришлось бы очень сильно постараться, пожелай он продолжить свой род в этом мире.
Но все же я люблю метро за самую наглядную микромодель мира. В ускоренном порядке сущности сталкиваются и разлетаются, живут свои жизни, ссорятся, влюбляются и умирают. Наверное, в этом гранитно-мраморном Колизее я видел все. Только в здесь, в странном и искусственном месте пересекаются в рамках повседневной жизни, синхронно и не сговариваясь, шаблонно нормальное и вызывающе безумное. Они могут сесть на одной уродливо коричневой лавке и унестись в едином центробежном направлении, как два странных фрагмента единого сложного витража.
Глава 3
– Весна-то какая, полноводная, – мысленно протянул Владимир Сергеевич, выходя на балкон.
– Не залило бы озимые – продолжил он, смачно жуя в зубах еще непочатую беломорину.
Утро выдалось весьма солнечным, нежные весенние лучи слепили, но в тоже время тепло ласкали лицо. Так что нужно было либо терпеть, либо плюнуть на всю это красоту.
«Не залило бы озимые», – мерно протянул в мыслях Владимир Сергеевич и принялся чесать то место, что он гордо величал животом, однако остальные предпочитали коротко и ясно именовать пузом.
Владимир Сергеевич числился штатным бездельником в еще более штатной компании, так что в свободное от своего празднества время, коего было предостаточно, он мнил себя мыслителем и, выходя на балкон, решал судьбы мира. На сегодняшний день весь мир, в лице Владимира Сергеевича, был в рабстве озимых. Что такое озимые, наш герой знал только по простой и вполне доходчивой колонке из Малой советской энциклопедии, однако важность данных посевов казалась ему сейчас самой значимой.
Пошарив по карманам рейтуз советского образца и найдя искомый предмет, а именно коробок спичек, заботливо произведенных на фабрике города Балабаново, Владимир Сергеевич приступил ко второму по значимости, после почесывания выпуклых мест тела, ритуалу – воскуриванию папирос «Беломор». С первой же тягой этого божественного и, несомненно, мужественного табачного продукта его сознание отринуло и озимые, и весну и даже отсутствие каких бы то ни было денежных знаков, которое так волновало его еще вчера вечером. Утреннее курение на балконе оказалось сродни катарсису или нирване, которую так упорно ищут индийские йоги. Обрядившись в сари, можно было бы блуждать по необъятным индийским просторам и, подобно Махатме Ганди, вещать о непротивлении насилию или на худой конец раздавать разнесчастным йогам курево, созданное по одному только Богу известному ГОСТу.
В этом помещении сложно было воспринимать себя жильцом, и Владимир Сергеевич, единственное обитавшее в его недрах существо, был скорее директором музея, нежели постояльцем. Пестрые раритеты разного возраста занимали почти все жизненное пространство. Громоздкий ореховый гарнитур, состоящий из буфета, тумбы и книжного шкафа, уже не мог досчитаться прочих своих элементов, но цеплялся за каждый квадратный сантиметр, врастая в стены толстым слоем пыли. Эти элементы мебели, будто матрешки, заключали в себе предметы более мелкого масштаба, но, как могло показаться, более высокой значимости для хозяина.
Сам хозяин шутливо называл свое обиталище пирамидой. В этом была определенная доля правды – количество подношений, принесенных и оставленных здесь, превосходило мыслимое и немыслимое понимание. Отличием было полное отсутствие интереса со стороны Британского музея к этой окостенелой сокровищнице.
Владимир по-отечески заботливо консервировал саму атмосферу в помещении обильными пластами пыли. Местами она уже лежала многослойной твердой коркой, не дающей никакого доступа к естеству пожранных ей вещей.
Отдельный интерес вызывали старые оконные рамы, испещренные трещинами краски. В их межстекольных бойницах россыпью лежали мумии почивших солдат-насекомых, отдавших свой последний долг королевству, но так и не обретший должные почести и покой погребения. Должно быть, это была величайшая трагедия, давно разразившаяся на полях былых сражений. Во всяком случае, такой вариант льстил Владимиру Сергеевичу гораздо больше, нежели планомерное накопление тушек инсектов в столь подходящем для них месте.
На верхней полке буфета стоял набор узбекских пиал с легкими сколами по всему диаметру. Рядом, наезжая друг на друга, теснились статуэтки из гжельского фарфора, ракушки, салатницы, наполненные значками, оторванными пуговицами и монетами. По бокам эту картину обрамляли две небольшие вазы, удерживающие желтоватые от времени зефирины хлопчатника. Ниже, за стеклом, как почетный экспонат, красовался набор чехословацкого хрусталя. Этого государства больше не существовало, но сохранившиеся бокалы так и не смогли определиться с национальной принадлежностью. Графины, стопки – вся парадная утварь молчаливо ждала своего часа за стеклом витрины.
Стену укрывал традиционный пылесборник каждой уважающей себя советской квартиры – ковер с психоделическим геометрическим рисунком. Вокруг него на стенах толпились вымпелы бывших достижений народного хозяйства, панно, фотографии в массивных запыленных рамах.
Там, где место на стенах слегка расступалось, жизненное пространство отвоевывали массивные книжные полки. Своих функций они не выполняли, так как были заставлены прочими мелкими, но не менее памятными сувенирами. Отдельный экспонат представлял собой неуклюжий книжный шкаф на раскоряченных ножках, доверху забитый всевозможной популярной литературой. Популярность ее можно было оспорить, так же как и литературный вклад, однако эти масштабные труды все же присутствовали в коллекции, исполняя роль декора и придавая хозяину вид и статус интеллектуала. Верхнюю полку заполняли серые книги, на корешках которых некрасивым черным шрифтом красовались три волшебные буквы, известные каждому человеку, который хоть раз сталкивался с советской литературной историей, и буквы эти были – ЖЗЛ.
Владимир Сергеевич долгое время пытался понять, чем же знамениты большинство этих несомненно выдающихся и замечательных людей, но к своему стыду, мог узнать только порядка одной четвертой из смутно знакомых фамилий.
Чуть ниже находились произведения так называемой зарубежной литературы, дозволенной к изданию в недрах советского общества, – считалось, что эти книги не способны отравить сознание советского человека. Были там и Майн Рид, и Джек Лондон, и прочие, как Владимиру Сергеевичу казалось, классики мировой литературы.
Самый нижний ярус этого ларца знаний занимали огромные художественные альбомы. Тома громоздкого формата А4 в тяжеленных переплетах обладали пристойным качеством печати и большим количеством фотографий и репродукций, предлагая каждому, кто дерзнет их коснуться, погрузиться в прекрасный сон мирового искусства.
Отдельным пластом художественных реликвий, которым владел Владимир, были элегантные произведения, выполненные в ныне забытой и не очень популярной технике выжигания по дереву. Персонажи детских сказок, олимпийские медведи и прочие доступные советскому ребенку лекала радостно смотрели на него с этих полотен.
Все вершины книжных полок были заботливо увенчаны расписными глиняными горшками с вонзенными в них мертвыми растениями. Высота нахождения этих предметов совершенно не позволяла среднерослому Владимиру Сергеевичу осуществлять своевременный полив своего урожая, и в результате все они застыли в холодной красоте смерти.
Возможно, из-за всей этой едкой атмосферы ему и приходилось закалять свой организм ежедневным курением. Уму нормального человека было непостижимо: как можно не просто находиться на подобной исторической свалке, а ежедневно проводить на ней так много времени. Этот ядовитый воздух наполнял его легкие ежеминутно, ежесекундно. Должно быть, папиросный дым служил горьким лекарством и тяжелым противоядием. Со своего исторического насеста Владимир продолжал следить за окружающей его и не его действительностью, замечать детали сегодняшнего дня, изредка оборачиваясь на день вчерашний, и предаваться мыслям, буйно кипевшим в его взъерошенной и давно немытой голове.
Дни, года и столетия проносились мимо в эти секунды: то пещерные люди жарили мамонтов, то Моцарт писал свой Реквием – подобные события никогда не разделялись в голове Владимира Сергеевича. Смысла этих вех мирового развития он все равно не понимал, но на своем весеннем балконе обязан был подумать и о таких «пустяках». Четырьмя этажами ниже хлопотали люди-муравьи, разъезжал транспорт всевозможных конструкций и цветов. Словно не замечая этого, солнце заливало все происходящее светом и теплом, наплевав на суету.
Кавалерийские отряды идут в атаку, рыцари мешаются с викторианскими пехотинцами, роботы разрывают клешнями и тех и других, и вот уже наступают наши танки!.. Резкий звонок поставил крест на батальных фантазиях. Путаясь в рваных шлепанцах, Владимир Сергеевич нехотя поплелся к телефону, дожевывая уже потухший ритуальный бычок. Черный телефонный аппарат, который определенно превосходил возрастом нашего героя, разрывался от напора неизвестного абонента. Домашний номер знали всего два-три четыре человека, такая роскошь, как мобильный телефон, был давно отключен за неуплату, да и смысла в нем не имелось – звонить было некому.
«Кого несет нелегкая?» – чертыхался Владимир Сергеевич, окончательно запутавшись во всевозможных половичках, разрозненных парах обуви и прочем хламе, разбросанном по квартире.
– Аллё! Да аллё же! – почему-то хрюкнул он в грязную трубку. – У аппарата! Говорите!
Сквозь шипение допотопного агрегата доносилось ни с чем не сравнимое тяжелое дыхание.
– Фома, ты? – заговорщицким шепотком произнес Владимир Сергеевич, мимолетно оглянувшись, не следит ли кто.
Собеседник отрывисто и слегка с присвистом выдал:
– Да-а!
Людей Владимир Сергеевич не любил. Он даже вывел формулу, где все бедствия суммировались в биологическую форму с четырехкамерным сердцем, сложной нервной системой и прочими руками и ногами. Однако к совершеннейшему одиночеству мало кто приспособлен, и стареющий бездельник окружил себя парочкой копий, одной из которых и был звонивший.
Глава 4
Этот праздник, это время пробуждения, время очищения – весна. Весной царит молодость и правит любовь. Это происходит везде, кроме наших широт. Здесь весна – всего лишь логическое продолжение зимы, плавно переходящее в скудное и короткое лето, с обратным билетом до зимы, минуя осень. Несмотря на подобные препоны, даже в суровых краях мы генетически начинаем радоваться и по-своему чествовать эту священную пору. Ведь и нас не минуют чудесные метаморфозы этой проказницы: ожиревшие и потерявшие всякие инстинкты птицы радостно беснуются в жалких лунках открытых водоемов, серый раздражающий снег превращается в черно-коричневую кашу, задорно хлюпающую под ногами, люди с психическими заболеваниями обретают уверенность в своих маниях и фобиях. Преображение властвует в мире.
Я, зябко кутаясь в пальто, меряю шагами ступени, покидая гулкий муравейник метрополитена. Стеклянные двери, отделяющие подвижный Аид от реального мира, хищно болтаются на нерегулируемых петлях, норовя оглушить зазевавшегося путника. Первые мои шаги по поверхности вызывают стойкое разочарование: о чистой обуви можно забыть до мая, а то и до июня. Развивая стойкость и упорство, я продолжаю следовать по аллее, разделенной между зимой и весной. Куски талого грязного снега уже успели обнажить части прошлогодних артефактов, так нежданно погребенных первыми зимними осадками. Воистину, если бы у меня сейчас был аппетит, то он не преминул бы отчалить, удалившись в гораздо более подобающие места. Парадокс, связанный с климатом этих мест в том, что люди, их населяющие, делятся строго на два лагеря: любящих зиму и люто ее ненавидящих. Несложно догадаться, чье философское течение поддерживал ваш покорный слуга, однако оба этих лагеря почти всегда с нетерпением ждут весны, а дождавшись, испытывают, мягко скажем, легкое разочарование. Эта зеленая и молодая красавица ничем не походит на картины Боттичелли или Левитана. Напротив, барышня коварна и сочетает худшие привычки и зимы, и осени, добавляя к ним лишь щепотку утонченной индивидуальности.
Я блуждаю знакомыми дворами, то ускоряя, то замедляя шаг. Взор мой устремлен вниз. С грацией сапера я стараюсь обходить все сложные ловушки, что сегодня расставила погода.
Признаться честно, я думал, что характера хуже моего просто не существует. О, сладкое заблуждение! Весна, эта взбалмошная дамочка даст прикурить на много-много дней вперед. Ее приход напоминает очень странные романтические отношения с элементами сексуальных отклонений. Она ласково бросит взгляд через плечо в феврале, повеет теплым воздухом, легкой оттепелью, звонким щебетом птиц в декорациях корпоративной романтики на четырнадцатое февраля. Только один взор, один нежный шепот – и ты теряешь всякое самообладание, фиксируешься только на одной идее ожидания, смакуешь в своей голове полноправное наступление этой поры. Федор Иванович, Афанасий Афанасьевич – как же, наверное, прекрасно наблюдать такие явления из окна уютной усадьбы, не будучи обремененным ежедневной обязанностью зарабатывать на хлеб насущный, не месить ногами все эти проявления первых любовных порывов!
А потом причуды барышни начинают скакать, как настроение шизофреника: жижа сменяется льдом, лед – жижей, снег – дождем и наоборот. Температура за бортом волнообразно движется относительно нулевой оси. Даже здоровые люди, если таковые, конечно, еще остались на нашей планете, немедленно хиреют. Романтично, не правда ли? Одни капризы порождают другие, тянутся бесконечной жемчужной нитью, и вот тут и рождается вопрос – зачем я этого жду?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.



