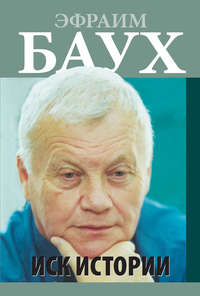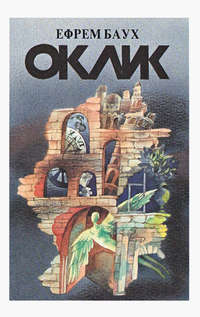Полная версия
Ницше и нимфы
Но о чем это говорит и почему это потрясает?
И что это даст мне, автору, кроме потрясения человеческой глупостью, и странной печали от чувства сладкой мести по ту сторону жизни?
Неужели слава человеческая – пустой звук, но желание ее – ненасытно?
Только Бог мог надиктовать Моисею Книгу, заранее зная неисповедимость путей ее возникновения до Сотворения мира, как предварительного его плана, без которого мир этот никогда не выберется из первобытного хаоса.
Только Он предвидел непрекращающийся спор о вечности и неистребимости Книги.
Во сне меня посетил Петер, и я говорил ему: пусть тебя не смущает, что иногда, сам того не замечая, я говорю о себе в "третьем лице". Рассказывая и думая о себе, я словно вижу себя и всю свою жизнь, да и все свои труды, со стороны – в явно грязном, с ржавыми подтеками, словно облеванном зеркале в незнакомом вначале, но явно угрожающем месте, – моей палате?
Кто же я – истинный? – ich bin, do bist, er ist…
Потрясает эта явно безумная легкость перескакивания с "я" на "ты" и "он" в обращении к самому себе.
Но пусть у тебя, дорогой Петер, не вызывает удивление то, что я буду относиться к себе то в первом, то во втором, то в третьем лице, как Он. Подобно Ему, говоря впрямую, одновременно вижу себя со стороны. Этот двойной или тройной фокус, в котором я узнавал и не узнавал себя, всегда не давал мне покоя. Это было Его сущностью. Ему не мешало, к примеру, явиться Мухаммеду в первом лице. Меня же это свело с ума.
Знаешь, особенно мне тяжело с наступлением весны. За окном наплывает солнечным таянием месяц март. Может ли быть что-либо страшнее для человеческого существа, чем этот одуряющий запах жизни, просачивающийся сквозь законопаченные окна дома умалишенных без всякой надежды – выбраться, которая дана даже узнику.
А тут еще Мама является, когда после обеда, по обыкновению, я сажусь за рояль.
Продолжаю играть, как бы ее не видя и зная, что в музыке она весьма несведуща.
Она помалкивает, и я смягчаюсь, принимая ее молчание за деликатность по отношению ко мне. Только к вечеру, когда мне, честно признаться, слегка надоело ее присутствие, она спрашивает, что я играл. Отвечаю: "Опус 31 в трех частях Людвига ван Бетховена". И эта старая дура в письме к Францу Овербеку, священнику и любимому моему другу, потрясенно сообщает о моей столь осмысленной игре, что ей кажется, – я все же мыслю. Вряд ли она знает, что повторяет начало слов Декарта: я мыслю, значит, существую.
Кажется, она весьма рискует, собираясь забрать меня домой, в Наумбург, под расписку, ибо, хотя колеблется, но все же рассчитывает на скорое мое выздоровление. Хорошо еще, что в доме она одна. Сестрица собирается вернуться из Парагвая лишь осенью.
13Я ненавижу себя, прежнего, размышляющего в домашнем халате, как Гегель в ночном колпаке. Если Сократ выпил яд за свои убеждения, то я все время зациклен на своем здоровье, но мне это не помогает.
Чтобы преодолеть смертельную дозу глубокомыслия, я бросаюсь в пляс, называя его "веселой наукой". Но этот перепад оборачивается не спасением, а приступом на грани безумия, предвещающим полный уход с редкими просветлениями – в безумие, на радость ограниченным эскулапам.
Меня, как пуповину, обвивающую удушающими путами, изводит сложнейший психологический клубок круговоротов душ в моей книге "Человеческое, слишком человеческое". Но мне уже не дано переписать эту книгу заново.
Вне зависимости от того, останутся мои книги или не останутся, присутствие мое в этом мире обречено быть обозначенным сотворением текста. Пишешь – существуешь. Я знаю, что все это будет выброшено, замызгано, растоптано животными, по ошибке называемыми людьми. Но мне это назначено, и долг неукоснительно несет меня к гибели.
14Настоящее не подлинно, ибо мгновенно переводит будущее в прошлое.
Авторитет текста строится ступенчато во времени, опираясь на другие тексты, которые уже обрели авторитет.
Опасность в том, что часто авторитет заменяет и подменяет истину.
Разве художественное произведение не является полем, где сталкиваются три противоборствующие силы: намерение автора, понимание читателя и сама структура текста.
Противоречивость человеческого сознания – главное действующее лицо мировой истории и культуры.
Внезапно меня, Фридриха-Вильгельма, объял ужас от мысли, что я принес в этот мир. Никто серьезно не задумывался над тем, какую страшную роль в жизни человеческих масс, в развращении человеческой души, в умении выдать ничем не доказанные постулаты, заведомую ложь, как бы во спасение, а, по сути, на гибель, заушательство, уничтожение, сыграла философия – чисто теоретическая и часто весьма приблизительная наука.
Она, в будущем, окажется хлебом насущным всех диктаторов, палачей, маньяков. Ее непререкаемость обернется в реальности пулей в затылок, сжиганием на костре, петлей на шее.
Сотни миллионов ни в чем не повинных людей поплатятся жизнью во имя, казалось бы, логически выверенных концепций, на деле оказавшихся прямым путем к варварству, по сравнению с которым то, что называлось в истории варварством, будет выглядеть детской игрой.
Когда философия изрекается устами палачей, даже если у них всего одна мозговая извилина, любое человеческое существо вытягивается по стойке смирно.
Человечество, считающее себя семьей разумных существ, рухнет в массовое безумие будущих войн, от которых, даже очнувшись, не сможет прийти в себя.
Невероятен феномен, но самые отпетые палачи и диктаторы будут изъясняться с жертвами по-философски, доказывая им, что, согласно национал-социализму или интернационал социализму, их необходимо расстрелять во имя светлого будущего.
Всё это, кажущееся наивным умам уже пройденным и осужденным этапом, висит, затаившись, над нашим будущим.
Ужасные бездны открыты, ждут своего часа, и невозможно их извести под корень.
Понимаешь, Петер, параллельные линии отменены, кривизна торжествует, не требуя доказательств. Только ты один понимаешь меня, ибо бескорыстен.
Все это я изрекал, прогуливаясь с Петером Гастом в саду дома умалишенных.
Я был в ударе, говорил о том, что философское сочленение жизни существует вне границ и держит непрерывность мыслительного существования, ощущаемое как удивительное равновесие между уверенностью и сомнением в движении к цельности, будь оно названо единым духовным полем или чем-то иным, вовсе недостижимым, но ведущим к опаляющим высотам духа.
В конце концов, последнее слово не за Кантом, Ницше, Шопенгауэром, и пока философ жив – надежда последнего слова за ним.
Лишь теперь, мучительно, пусть поздно, отрицая все ими навязанное, быть может, более себе, чем миру, я ощущаю, что надо лишь суметь устоять в точке сплава всех шести степеней свободы воли – земли, неба и четырех сторон света – и затем выразить все оттенки этого стояния в духовном эпицентре; суметь ясно показать, как вечное проглядывает сквозь душу – эту прореху в бренной плоти.
Звук, запах, вкус, тревога, страх, воодушевление говорят о правде этого стояния в своем времени, в своей точке пространства.
И тогда это мгновение становится частью той вечности, в которой, быть может, даже не подозревая об этом, остались все сидящие за длинным – в тысячелетия – столом мудрости – и пророки вовсе не отметают философов, ибо все вместе единым усилием сохраняют духовное богатство человеческой мудрости.
И смерть, как бы она не лезла вон из кожи, не может пробить круг этих великих умов.
Они ей неподвластны.
15Все чаще в последнее время поражает душу некая неутомимая убедительность, явно вызванная страхом приближения смерти. Устанавливается ощущение, какого раньше не было, что эссенция жизни, отмеченная Шопенгауэром, возникает слоем света и умиротворения в моменты засыпания и пробуждения, как масло всплывает на поверхность вод, глубины которых затаены в закручиваемых водоворотами корнях сновидений, и эссенция их протягивается через все годы моей жизни.
Удивительно, как во сне желание славы мирской не проходит, но и не накрывает с головой, словно бы сон с более естественной, чем в реальности, снисходительностью относится к этой жажде славы, зная ей истинную цену.
Но бывает, наплывает полоса снов неким иным, пленяющим легкостью дыхания и раскованности, миром. Быть может, в этой длящейся недвижности, в этой особой материи, вырабатываемой существованием в каменном мешке, иной мир открывается особым светом и приятием, который не просто кажется действительным, а намного реальней окружающей действительности. Надо лишь освободить его от пелён нашей слепоты и неколебимой уверенности в том, что мы знаем истину.
Иногда, медленно, как бы щадя, наплывают островки блаженной памяти. Мама, которую я про себя еще называл ее именем – Франциска, неторопливо вышивает гладью. Нескончаемой нитью тянется время. По краю бахчи, где, подобно бикфордовым шнурам, змеятся плети пуповин, тянущиеся к "бомбам", арбузов, бежит жеребенок. А в детской среди рисунков и каракулей, то ли случайно, то ли намеренно, обнаруживается план уничтожения мира.
Кто я – Фридрих-Вильгельм, или Фриц, или Фрици? Порой эти германские имена меня изводят, и тайно я зову себя – Фредерик: мне намного приятней ощущать себя потомком польских аристократов Ницки, даже если это окончательно не доказано.
Кредо
16Как я далек от принятого мной с написанием первых книг – кредо.
Надо жить, сохраняя чудовищное и гордое, даже высокомерное, спокойствие – всегда по ту сторону.
В каждой приходящей мысли отчетливо различать все "про" и "контра".
Вспыхивать до состояния аффекта, неземного парения.
Спускаться с высот, как прыгают на коня, без седла или с седлом, даже после моего неудачного прыжка в двадцатитрехлетнем возрасте во время службы в конном подразделении полка полевой артиллерии, когда я повредил грудную кость и свалился с воспалением грудных мышц.
Получать непередаваемое удовольствие от скрытности, как писал все тот же любимый русский поэт Лу – Тютчев: "Молчи, скрывайся и таи и чувства и мечты свои…"
Ограничиться тремя сотнями мотивов – добросердечия, сдержанной учтивости, чтобы не навлечь на себя обвинения в гордыне.
Всем своим видом и поведением отторгать от себя пошлость, нечистоплотность толпы, глазеющей на тебя с нескрываемой ненавистью, выступая перед ней прозорливым, сочувствующим, мужественным, умеющим постоять за себя и каждый миг оценивающим себя со стороны.
Всегда быть окутанным романтическим облаком благотворного и благословенного одиночества.
Подобно истинному мыслителю, желать быть непонятым, чем понятым превратно, ибо такое понимание упрощает и уплощает его мысль. Непонятое же несет в себе семя любопытства, горький аромат неразгаданной тайны.
Музыка
17Мне было десять лет, когда в день Воскресения Иисуса я замер, услышав расширенный акустикой городской церкви величественный хор из "Мессии" Генделя – "Аллилуйя". Это было ликование ангелов по поводу вознесения Иисуса на небо.
Потрясенный до глубины моей еще неокрепшей детской души, я вернулся домой. Новое ощущение мира и жизни раскрывалось с каждым подобранным мной аккордом. Чудо было в том, что я их извлекал своими пальцами. Меня невозможно было оттащить от фортепьяно. Занятие годами, поиски сочетания тонов и аккордов научили меня играть с листа.
Небесное звучание, мощь, сам феномен музыки, оживающие в звуках нотные знаки, доводили меня до слез.
Маленький орган церквушки в Рёккене для меня ближе, трогательней великолепных органов знаменитых соборов. Звуки у него интимней, чище, гортанней, касаются сокровенных струн души. Они словно бы струятся в безмолвии длящейся затаенной жизни, подслушанные не стихающей стихией музыки и преображаемые ею в хоралы, мадригалы и особенно реквиемы, доводящие до благодарных и благодатных слез очищения.
Параллельно учебе игры на фортепьяно, я пробовал импровизировать, сочинять первые музыкальные композиции. Трудно было вначале понять, что с чем приходит – головная боль с музыкой или музыка с головной болью. Но затем пришло понимание: самозабвенная отдача музыке доводит до головных болей, долгое вглядывание в ноты приводит к болезни глаз. По этой причине, меня, десятилетнего подростка, освобождают летом тысяча восемьсот пятьдесят шестого от учебы.
Колокольный звон в детстве ощущался каким-то странным подъемом духа. Это было легкое общение с Ангелами, неожиданный праздник среди мертвых будней, куда взрослые вмерзли всей своей жизнью, этой горстью плоти, этим обтрепанным ворохом дней.
В этом и сущность музыки. Относитесь к ней налегке. Откровения придут, и чересчур скоро. Так рано я, Фридрих-Вильгельм, утратил радость своего кайзеровского имени. Я уже не мог играть жизнью по-детски, как ветром. Счастье это затянувшееся детство мира, музыка хочет его продлить, и не в силах. А на улицах обступают кольцом, дышат мне в затылок евнухи жизни. Скучно их существование, отравлено сознанием, что их понимание мира весьма ограничено. Вот они и пытаются развеселить себя войнами. Это уже палачи, ханжески прикрывающиеся верой. Существа, начисто лишенные слуха. Обломки мертвой природы. Умеют лишь физически заправляться и оправляться, и поднимать руку, если в ней – топор, нож или ружье.
Удивительно, что десятилетним подростком я уже так видел мир. Музыка вызывала во мне смесь наслаждения и страха.
Было ли это первым смутным предчувствием того, что я позднее вырвусь из тенёт страха Божьего, отвергну небесную музыку и вместе с ней – Бога?
Тогда, в детстве, я понял, что только музыка дает силы и возможность претерпеть все неприятности и невзгоды. Когда я здесь музицирую, в доме умалишенных наступает тишина.
С течением времени музыка становится истинным спасением. Когда я прикасаюсь к прохладным клавишам фортепьяно, они сами скользят, извлекая из моей души скрытую в ней гармонию, уравновешивающую жесткость и необычность моих мыслей, стремящихся перевернуть закосневший склеротический мир, который, кажется, еще миг скует меня по рукам и ногам. Музыка мгновенно освобождает от этих оков. И если в мыслях я мечу громы и молнии, в музыке меланхолический Шуман может довести меня до слез.
18Фортепиано – непременный атрибут дома умалишенных.
Раскаты аккордов и пассажей из-под моих пальцев, кажутся обнадеживающей вестью иного мира, льющейся из некоего тайного раструба в эти стены, пропахшие разлагающейся плотью в смеси с карболкой и сердечными каплями. Обитатели дома замирают. Никаких стонов и криков.
Вероятно, через какие-то отдаленные польские корни меня всегда тянуло к русской литературе, особенно усилившейся после знакомства с Лу и ее любимым поэтом Тютчевым. Но еще до нее, в двадцатилетнем возрасте, я сочинил музыку на стихи Пушкина "Буря мглою небо кроет…" и "Заклинание", словно предчувствуя в нем собственную судьбу:
О, если правда, что в ночи,Когда покоятся живые,И с неба лунные лучиСкользят на камни гробовые,О, если правда, что тогдаПустеют тихие могилы, –Я тень зову, я жду Леилы:Ко мне, мой друг, сюда, сюда!..Иногда я повторяю этот романс на фортепьяно дома умалишенных, словно жду дорогую мою живую Лу, блуждающую тенью где-то в мире, как герой романса ждет Леилу.
Не оставляю клавиши помногу часов. Меня раздражает все, что нельзя выразить музыкой.
Странные мысли посещают меня во время игры. Мне видится аккорд фикцией, мгновенным сечением голосов, и каждый вопит не своим голосом. Каждый мир кричит о своей заброшенности, боли, а вместе – благозвучный аккорд.
Голос – улика. Хор – коллективное покрытие преступлений. Музыку надо слушать вертикально, чтобы в одном из ее пластов засечь себя.
Дело весьма трагическое – погрузиться в Преисподнюю, и при этом сохранить веру в порядок и смысл.
Это всегда – чудо и печаль – одиноко среди немоты мира, в сумасшедшем доме звучащая музыка. Она падает каплями, впадает в беспамятство. Вдруг спохватывается, путаясь и пытаясь в единый миг раскрыть всю свою неимоверную глубину, но, испугавшись собственной смертельной доверчивости, сворачивается улиткой в раковине.
Глубинные струны колеблют пламя свечи.
Когда затихает головная боль, отступает чувство рвоты, готовое вывернуть нутро, наступает беспечальность, обнадеживающее отсутствие.
Как счастливое ощущение свободы, обнаруживается в душе изначальная жажда бродяжничества, ставшая в будущем формой моей жизни.
Музыка истаивает, как пламя свечи, исходящее воском.
Спасение ощущается в случайной скрытой связи музыки со временем.
Музыка лечит.
Прием же лекарств – скорее ритуал, чем помощь. Из этих стен только музыке удается упорхнуть, сбежать в воспоминания начала века, оставив следы в кажущейся в этих стенах нелепой лепке потолка.
Не хватает органа, дыхание которого чудится спасением в этом доме умалишенных – миниатюрном филиале Преисподней.
Сколько там боли и страха. Ничего не исчезает.
И приходит музыка, – и природа перед ней оказывается младенцем.
19Музыка – заклинание: воскресить боль.
Когда звучит музыка, веришь, что жизнь не проиграна.
Лучший психиатр – сочинитель музыки. Он знает, что такое страдание.
Что эти паузы? Провалы в небытие? Оцепенение от увиденного ужаса в разверстой бездне?
Находить в безнадежности удовлетворение – вот Преисподняя.
Темное изобилие звуков толпится у входа в Преисподнюю.
Там – в гибельной неотвратимости творчества – у того, кто творит, нет родных. Нет женщины, детей, самой жизни.
Есть лишь музыка, неведомо откуда вливающаяся через отверстый слух в остолбеневший мир.
Замирает дыхание. В музыке слышится движение крыльев.
Улетает душа? Или кружится в отдалении, мучительно желая приблизиться и зная, что это невозможно. На миг все открывается и становится на свои места.
Это не музыка.
Это мольба о потерянной душе.
Ком стоит в горле, пока пальцы двигаются по клавишам.
Печали нет. Слезы катятся из глаз от угадываемого музыкой , мольбой, безмолвием сокровенного знания, перед которым нельзя лгать и фальшивить. Знание это выворачивает душу, берет на себя всю смертельную тяжесть неудавшейся жизни. Оно говорит правду, которую я сам от себя таю. И слезы текут в благодарность и от непереносимости собственной лжи, предательств и гибельной слабости.
Нотные рукописи не горят.
И я слышу пение ангелов, доносящееся из расщелин неба и приносимое ветрами надежды. Голоса высших сфер. Автографы мироздания.
Я ведь всю жизнь уповаю на музыку: свести с неба, в этот мрак, Ангела добра. Угадать, отличить, окликнуть. Не ошибиться. Но вместо этого всю жизнь соскальзываю в Преисподнюю.
Каждый выделенный мной Ангел оказывается общим местом. Банальностью. Значит я давно уже мертв. Но и в Преисподнюю меня не впускают: сама цель моих страданий – поиск Ангела – их пугает.
Я бросил это дело – играть на публику, ибо однажды отчетливо увидел: в зале нет лиц. Одни маски, и не слушают, а судят меня.
За что? За то, что я хочу их выдать. Не умею и не сумею, но очень хочу.
Нет, они не боятся. Но это их раздражает.
Играя, я смотрю на отражение своих пальцев в лакированной деке. Мне это кажется спасением. Но ощущаю, что и пальцы захвачены ими.
Никуда не деться от реальности, где искусство, философия, язык – разорваны силовыми полями варварства, массового психоза, обладающего эпидемическим характером и бактериальной заразной средой, называемой идеями "прогресса, разума и справедливости".
Душа, обладающая талантом излить себя в тексте, подобна замершей клавиатуре фортепьяно. Но стоит памяти коснуться клавишами того мгновения, и оно оживает во всей своей зрелищной и музыкальной силе, пронизанной всегда светом печали.
Музыкальная память нетленна. Текст забывается. В музыке пара пассажей, – и память вольно бежит по спускам и подъемам нот, волшебную силу которых я понял еще в раннем детстве.
Разве тебя, дорогой Петер, которого я считаю прекрасным композитором, не посещало ощущение: среди этого зажатого, отжатого до последней живой капли чугунного мира в ритме четыре четвертых– внезапно – редкая – синкопа. И вот уже – убыстрение по наклону, прорыв энергии, стремительность движения, стояние на кончиках пальцев одной ноги, наклон тела за секунду до старта, дионисийство вопреки размеренному, устоявшемуся, аполлоническому началу, неудовлетворенность, обещающая стремление к цельному?!
Так никогда мне и не удалось побывать на концерте отца. Когда он играл дома, мы слушали его, затаив дыхание, трепетно вбирая возвышенный священный текст, по которому я научился читать и писать. Этому тексту я обязан своей отчаянной привязанностью к музыке – да поможет мне отрицаемый мною Бог.
Нимфы
20Я уже не совсем убежден, было ли у меня с той или другой Нимфой что-то реальное или все это уже поздняя игра воображения. Ведь это короткое сладостное действие не закрепляется в памяти, исчезает также быстро, как и происходит.
Воображение тщится это разыграть.
И приходится признать, насколько ярче вспышка мысли от чтения или размышления, и это намного дольше ощущается наслаждением.
И все же, почему я столько думаю и возвращаюсь к ним – Нимфам – глупым Сиренам, сводившим меня с ума своим пением и самим своим видом. Я бы и сейчас заткнул уши воском, если бы его можно было здесь достать, но знаю, что это не поможет, ибо это пение и эти облики – внутри меня – все это размыто, а пение слабо, как игольное пение комара, но с ума свести может.
Когда я думаю о женщинах, первым делом в памяти возникают их волосы. По сути, для меня символ женственности – волна волос – черных, рыжих, коричневых, золотистых. И всегда – маленький рот, где-то там, среди ее красот.
О, сколько чудесных и великих вещей я упустил из-за тебя, смуглая моя принцесса! Как чрезмерно ты согреваешь мои сухие губы, как кости в видении пророка Иезекииля, под солнцем. Да поможет тебе и мне отрицаемый мной Бог, если я, для кого скитания стали прибежищем, окажусь с тобой в одном и том же кругу Ада.
С детских лет быть в пути – расти, мужать, образовываться, обновляться, сбрасывать кожу, обрастать новой не просто в постоянно меняющемся окружении, а быть все время как на чужбине, без чувства пристанища, своего угла в мире. Так вырабатывается особый характер, воспринимающий любое существо, перебегающее мою нескончаемую дорогу на тараканьих качающихся ножках, за демона, духа, исчадие Ада, чадящее как головешка, не щадящее встреченного на дороге.
И лишь не зависящее от нашего разума вожделение преодолевает страх сближения с демонами в женском обличии, Нимфами, Сиренами, раскрывает в нас доверчивость к ним, весьма приблизительно называемую любовью.
Мысли же, в прошлом столь часто посещавшие меня, ныне подобны уставшим обессилевшим птицам, которые раньше доверчиво садились мне на ладонь, теперь же садятся в поисках спасения. Старость, дряблость крыльев заставляет их это делать. Не узнаю их, птиц моего юношеского одиночества, злых, независимых, дорогих моему сердцу.
21Несколько лет назад, на свободе, в приступе одиночества и неотстающей тоски по женщине, я подолгу стоял голым перед зеркалом. Я ощущал себя подобием любимому моему, воплощению неуправляемой дикости, сотрясающей все тело похоти, лисьего льстивого коварства, богу Дионису. Длиннорукий и коротконогий, я был похож одновременно на Силена и Сатира.
В этом же логове умалишенных, такое удовольствие, к большому моему огорчению, мне не дано. Да и вообще ноги мои бегут впереди себя, пальцы сжимаются в кулаки. Руки поднимаются и опускаются, как рычаги вхолостую работающего мотора.
И только мужское мое достоинство не встает, сколько бы моя страсть и вожделение не пылали. Я гляжу на него, поникшего между моих бедер. До какой степени любовь может принести боль, чтобы из него брызнула кровь?
Необходимо разрешить плотские наслаждения, чтобы осуществлялись добрые порывы души, ибо аскетизм, веющий от статуй христианских святых это не праведность, а отклонение от естества.
Моя дорогая Лу была скромна в крайнем смысле этого слова, ибо поставила препятствия и всяческие уклонения нашей страсти. Но ни разу мы не познали скуку, ибо она всегда была нова и неожиданна в разнообразии женских тайн, которое делало ее божественной, неутомимым источником радости.
Но от моей сексуальной недостаточности нужда в женщине не уменьшается. Наоборот, увеличивается. Раньше я тешил себя мыслью, что вот-вот, совсем скоро, избавлюсь от этого наваждения, и смогу привязать весь мой природный пыл к нуждам философии, а не фаллософии. Этого не случилось, и я полагаю, что это никогда не случится.
Философия всегда будет у меня играть вторую скрипку после нужды плоти.
Я очень много сил извел, размышляя над тем, что предваряется в моей сущности – сексуальная озабоченность или неотстающая страсть к философии. Страсть эта гнала меня в ухоженные сады Канта, в геометрическую шагистику Гегеля или в чертополох Шопенгауэра: в нем я чувствовал себя, как младенец Моисей в корзине, несомой течением Нила, неосознанно ожидая, когда меня найдет дочь фараона.