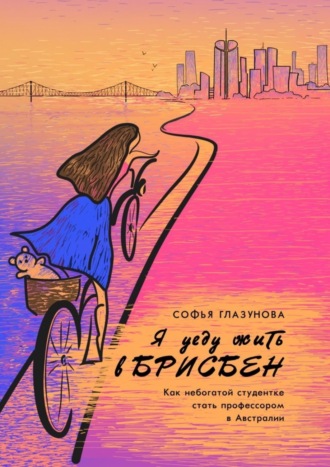
Полная версия
Я уеду жить в Брисбен. Как небогатой студентке стать профессором в Австралии
Расскажу на примере академии. Помню, как нас в школе, университете учили структуре английского письма. Если адрес, то в правом верхнем углу обязательное Dear Sir/Madam. Если не знаешь адресата, и не дай Бог ошибиться с Yours faithfully и Yours sincerely.
Я подала заявку в докторантуру именно таким образом, вдруг получила ответ из Австралии: Hi, Sofya! Неслыханно! Они ответили мне так просто. Ни тебе обязательных пожеланий в конце, ни чопорной структуры. Односложно и по делу.
Спустя полгода, так и хочется написать в очередном письме: «I am writing to you in order», австралийцы, а вслед за ними и коллеги с университета, такую серьезность не поймут, и бросят тебе в ответ свое недоумение в виде Hi (не то, про которое вы подумали). У меня один вопрос – зачем нам все это вдалбливали? В голове сразу картинка из Гарри Поттера, где Амбридж преподавала магию без магии и заставляла выцарапывать «Я не должен лгать, профессор». Лгать, что ты такой из себя весь серьезный, а на самом деле нет…
По правде сказать, тут и профессора Амбридж бы не было. Назови я ее здесь «Профессор Амбридж», она бы неудобно поежилась в кресле и сказала бы: «Пожалуйста, зовите меня просто Долорес». Долорес может быть только что окончившей PhD-коллегой или заслуженным профессором за 70.
У них еще ведь и отчеств нет! Но профессорам таким образом не надо выражать свое почтение, зачастую оно и так заключается в их должности на факультете и других научных заслугах. Иному, правда, может показаться, что тут все равны вне зависимости от статуса и возраста. Но это не так.
В университете есть своя иерархия, и, думается мне, вряд ли кто-то до второго года обучения считает нас настоящими учеными. Но как же становится легче, когда ты не тратишь время на размышления, как построить письмо, как лучше обратиться, в какой момент сделать реверанс. Не боишься быть несерьезным в общении.
В общем, остерегайтесь канцелярита в Австралии, а вот про другие страны я такого сказать не могу. Кэжуал-общение приветствуется не везде, узнала я скоро.
Я – не последняя буква в алфавите!
Недавно прочитала у Чака Паланика – чтобы стать успешным писателем, нужно очень умеючи прятать «Я» в повествовании от первого лица.
Прошерстила все свои заметки в блоге. Черт, да там же в каждом предложении выпячиваю свое «Я». Предлагается заменять на мое, моя, мои… Будто бы читатель на подсознательном уровне отвергает личную форму повествователя, и он сразу же сворачивает вкладку. Но если Я плевала на советы Паланика, он не писал про циклоны Австралии и ему не было страшно, то как же быть с исследованиями, где последняя буква русского алфавита – табу?
После шести лет академической школы у меня уже неплохо получалось жонглировать словами в предложении так, чтобы никто не понял, кто автор. Отсутствие Я как будто давало мне статус независимого исследователя: он не вмешивается в ход события (если это не включенное наблюдение), беспристрастен, может судить о событиях свысока. Хорошо, что русский язык велик и могуч и можно легко скрываться за другими словами, менять порядок слов в предложении.
В России нелюбимое учеными слово мне приходилось заменять на «Автор», «Исследователь», иногда писала «Мы», подразумевая себя и научного руководителя. Еще получались прекрасные в несколько строк предложения без единого глагола, то есть за отсутствием автора терялось и действие. Чем дальше, тем быстрее приходило понимание того, что отсутствие Я на качество исследования никак не влияет, но вот за таким стилем теряется сама суть.
В моем австралийском вузе академический язык сравнивают с мертвым ровно по тем же причинам, что и у нас. Сложность заключается еще и в том, что англичане непреклонны, в каждом предложении должно быть сказуемое и подлежащее. И здесь приходится прибегать к помощи пассивного залога, который также нагружает смысл предложения.
Что делать? В университете рекомендуют заменять пассив на актив, использовать как можно больше глаголов и писать Я. И тут нельзя не согласиться, ведь вы пишете это исследование, раскидываете мозгами, выбираете подходящий инструментарий. В конце концов, вы, а не кто-то другой, ответственны за работу и результат. И это чувство ответственности прививается здесь с самых первых занятий.
В общем, якать в Австралии можно сколько влезет. Как поется в одной известной песне, не надо стесняться!
Вы – водитель автобуса
Название главы может натолкнуть на мысль, что это про тех горе-студентов, кто так и не смог освоить университетский курс и в водители пошел. Но здесь о другом.
В Брисбене мне предстояло познакомиться с коллегами на ориентационной встрече факультета. Он, факультет, очень креативный в прямом и переносном смысле слова (Creative Industries Faculty). Кроме того, объединяет актеров, продюсеров, дизайнеров, журналистов, художников и даже коммуникативистов. Основной упор в обучении идет на междисциплинарность и практичность. Никому не нужна теория в теории (что меня безумно радует!). Используя теорию, вы должны создать инновацию, которая пригодится в реальной жизни.
На встречу пришло около 100 человек, кроме PhD-студентов здесь также присутствовали магистры и DCI (Doctor of creative industries, для отъявленных практиков). В памяти сразу мелькнули картинки с бакалаврской встречи в Вышке, где меня, 17-летнюю девчонку, вдруг стали называть громким словом «коллега». И хотя мои воспоминания с того события очень даже теплые и приятные, но есть несколько вещей, о которых нам тогда не говорили…
«Здравствуйте, Софья!» Ко мне подошел декан факультета, а я вздрогнула – откуда он знает, как я выгляжу и как меня зовут? Дело в том, что мою заявку рассматривали всем факультетом, кандидатуру обсуждали на нескольких уровнях, поэтому мой случай – может, и совсем типичный. Но короткая дистанция, которую у нас бы приняли за фамильярность, здесь обычное дело. А после пятого человека уже не страшно.
«Мы здесь, чтобы вам помочь» – банальность, но эта мантра повторялась от спикера к спикеру. Библиотекарь ли, IT-специалист, преподаватель, психолог – мы все здесь, чтобы обеспечить вам идеальные условия для обучения. Самое главное, что требуется от студента, умение задавать вопросы, а глупых вопросов здесь не бывает.
В моей докторантуре нет экзаменов или экзаменаторов, есть Шаги (Milestones), Подтверждение кандидатуры (Сonfirmation stage) и Финальный Семинар (Final seminar). Эти слова не приводят в ужас, а наоборот, как будто ведут тебя по особенному маршруту.
«Вы – водитель автобуса!» Пожалуй, самый распространенный слайд на ориентационной встрече, и он созвучен с горячо мною любимой «Теорией автовокзала Хельсинки» (Stay on the fucking bus!). Метафора с автобусом означает, что у вас есть свой маршрут, навигатор в виде супервайзера, есть пассажиры, команда, помощники, но только вы – водитель. И вы определяете, куда вам ехать, по какому пути. Главное, не спрыгнуть с автобуса!
Многие также здесь ассоциируют с PhD слово journey. Эта ассоциация наконец-то помогла мне осознать, почему я люблю исследование. Оно всегда увлекательно: итог, несмотря на гипотезы, всегда непредсказуем, и какой бы ни была длинной дорога, у нее всегда есть конец, то есть результат.
Три проблемы
PhD-исследователя
Прошли первые дедлайны, проект диссертации утвержден на кафедре, и… что дальше? Романтика PhD быстро растворилась в рутине и бесконечности страниц академического текста. Твоих или чужих, неважно. Прокрастинация кажется немодным хипстерским словом, она захватывает тебя и утаскивает на свое дно, откуда с трудом видно слово «Защита». Я рисую не какой-то апокалипсис, а реальность первого года обучения. То, как я ее вижу.
Первая проблема исследователя – процесс написания обзора литературы. Чему нас там учили в школе? Читать и писать? Вот, пожалуй, два главных навыка, которые нужны для этой части диссертации. Умножать и вычитать не просят. Каждый день, пять дней в неделю, иногда больше. Я спросила у своих коллег, как они выжили в этот период. Признают все, неимоверно скучно, спасались по-разному.
Сначала я путешествовала, сходила на все воркшопы мира, потом ударилась в спорт, пошла на танцы, обошла все фестивали и рестораны в Брисбене, но вот приходишь ты домой в воскресенье вечером, и в голове начинают говорить всякие Бимберы, Блумлеры, Далгрены, Колманы, или еще хуже – Лассуэллы или Липпманы, Хабермасы. Кто все эти люди? Что им от меня надо?
Вторую проблему исследователя можно назвать «ты слишком много на себя берешь». Речь идет об объекте исследования. Первый год исследования ты только и делаешь, что сокращаешь угол обзора. Из 180 градусов хорошо, если останутся 10. Этот долгий и мучительный процесс обусловлен тем, что ты ограничен временными рамками, в моем случае три года, в Европе и Америке от четырех лет и больше. В каких-то случаях это финансовые ограничения: проводить эксперименты, собирать фокус-группы, интервьюировать 300 человек – просто нереально, какой бы привлекательной ни выглядела перспектива наглядности результатов.
Ну и самая простая причина, конечно, в возможностях твоего сознания, нельзя познать все. Да часто это и не нужно. Но определиться, за какой кусок пирога взяться, порой очень трудно.
Другая проблема PhD для меня здесь – академическая этика. Ты должен думать о других, заботиться о них по библейским заветам, строить свой дизайн исследования так, чтобы никому не было обидно. Как все было просто в России! Там я делила, вычитала и умножала петербургских депутатов, а потом им же и вещала с трибуны, обзывала еще, по-научному. Никакой этики, только хардкор!
Если серьезно, то в моем университете есть целый этический комитет. За каждым факультетом закреплены этические советники, а перед тем как перейти к эмпирической части, нужно получить одобрение этического комитета. Никто не даст тебе интервьюировать просто так: как, когда, в какое время, что, где, с какими рисками. Дальше больше: ни одну научную статью нельзя отправить на печать без этической цензуры! Мне еще это предстоит. Уже страшно.
В целом, первый год PhD – то еще испытание. Но есть и оптимистическая нотка. Это тот самый период, когда ты можешь прокачаться, т.е. восстановить и дополнить свои знания новой или классической литературой. Наконец, за это время ты все-таки понимаешь, что именно хочешь исследовать. Чаще твое представление до и после – две разные вещи. Просто не дай себе засохнуть.
Нетворкинг: твори добро,
как пел Шура
Нетворкинг – не просто модное американское слово, это в наше время часть жизни любого продвинутого человека с карьерными устремлениями. Всю пользу нетворкинга, к своему сожалению, я обнаружила только к концу бакалавриата. Когда закончилась учебная лафа и начался поиск работы, я поняла, что объявления на хедхантере не могут мне помочь трудоустроиться. Поняла, но не осознала.
К концу магистратуры ситуация еще более осложнилась: мои знания стали еще более узконаправленными, а контактов в сфере политкоммуникаций – раз-два и обчелся. Начался тяжелый процесс поиска работы в разных городах, смежных областях профессии. Не без помощи моего любимого метода коврового покрытия, о котором я рассказывала раньше. Но, конечно, мир капитализма в лице австралийской академии доказал, что все это время я протирала штаны и не брала быка за рога. А надо было. Мне было неудобно, я стеснялась саму себя, заранее программировала негативный сценарий.
В Австралии нет слова «стесняться», нет слова «неудобно» и даже «невозможно», есть слова «хочешь добиться», и ищешь пути, как это сделать. Нетворкинг – один из путей, и, как оказалось, наиболее эффективный.
Расскажу, как я стала здесь преподавателем. Нужен был опыт и, конечно, небольшой приработок к стипендии. Я подошла к делу с особой старательностью и даже занудством. Процесс поиска преподавательской работы на моем факультете хаотичен. Нет системы, куда ты можешь загрузить свое резюме и ждать приглашения, нет рассылки по электронной почте, не каждый научный руководитель знает, как тебе в этом помочь. Ты должен знать конкретного человека, с конкретным курсом и с конкретными потребностями для преподавания. Еще бы его найти.
Другой язык, другая культура, другой академический бэкграунд – тут не оправдание. Соревновательность в моей среде достаточно высокая, и клювом тут долго не щелкают. Первое, я перестала стесняться писать незнакомым людям свои запросы о работе. Я перестала бояться просить после отказа о трудоустройстве связать меня с другими людьми. Это привело меня к новым полезным контактам.
Мой американский коллега познакомил меня с идеей «Информационных писем». Как найти работу, если ты еще не закончил докторантуру, и до конца – как до Москвы пешком? Надо найти интересующих тебя профессоров, факультеты, университеты, напиши, что хочешь познакомиться, обсуди детали при встрече за чашкой кофе, закинь удочку о сотрудничестве. Это абсолютно американский стиль делового общения. Нужно признаться, я с ним пока только знакомлюсь и начинаю практиковать.
Чтобы найти работу, я спрашивала всех подряд – «А ты знаешь, кто нуждается в преподавателях?» Ответы, которые я получала, записывала в лист ожидания и с периодичностью в неделю или две писала письма с запросами о работе. Одно письмо по традиции на шестой раз (все тот же ) попало в цель. Меня пригласили на интервью, его я прошла, потом мою кандидатуру одобрили – так я начала вести семинары для бакалавров и получать первую австралийскую зарплату. А на нее у меня были уже бооольшие планы. метод коврового покрытия!
Но это не значит, что на этом процесс окончен. Процесс поиска контактов продолжается.
У меня уже закинуты удочки на следующий семестр. Плюс не все контакты выстреливают сразу: какие-то будут полезны в будущем, и ты никогда не знаешь, как и когда они тебе помогут. Не нужно смотреть на них как на объекты предельной полезности здесь и сейчас. Важно не злоупотреблять, если люди видят, что ты с ними общаешься только ради выгоды, – сразу обрывают все контакты.
И последнее правило нетворкинга – делать то же самое для других. Соединять людей, которые могут быть интересны друг другу, знакомить их при встречах, слать и-мейлы. Я все-таки верю в силу бумеранга. Твори добро, как пел Шура, и оно к тебе не раз еще вернется…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.



