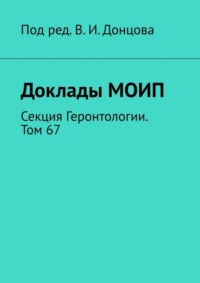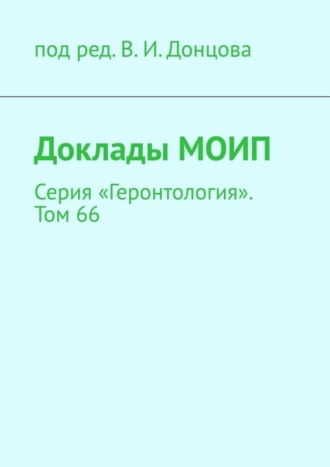
Полная версия
Доклады МОИП. Серия «Геронтология». Том 66
В частности, уменьшение ее надзорной функции за поддержанием клеточного гомеостаза способствует развитию рака.
Ослабление иммунитета уменьшает устойчивость организма к разным инфекциям и способствует развитию разных воспалительных реакций, вызывающих смертельно опасные для пожилого человека заболевания, например, пневмонию. Последняя, как хорошо известно, стоит в первом ряду как причина смерти у пожилых людей. Возрастное утолщение стенки артериальных сосудов может способствовать развитию атеросклероза, инфаркта и инсульта.
И таких случаев, когда нельзя однозначно сказать, чем вызвано данное патологическое состояние – естественным проявлением старения или болезнью, независимой от него, немало. Однако само название ВЗЗ уже указывает на то, что эти заболевания зависят от возраста, то есть могут быть следствием естественного процесса старения. Более того, многие патологические процессы, претендующие на статус болезни, могут в действительности быть компенсационными изменениями, наступающими вследствие естественных возрастных изменений. Поэтому патогенетический поиск способов лечения старости будет одновременно способствовать поиску средств лечения других ВЗЗ. И ещё. Известно, что начало старения ассоциируется с увеличением вероятности смерти, начинающейся примерно в возрасте 11 – 14 лет. Однако, болезнь Альцгеймера тоже может начинаться за несколько десятилетий до своего клинического проявления. Можно упомянуть и так называемое физиологическое старение без выраженной возрастной патологии. Но многие болезни могут проявляться как в тяжелой, так и в легкой форме без выраженной симптоматики.
Поэтому физиологическое старение, если оно существует в действительности, можно считать легкой формой старости как ВЗЗ.
И, наконец, осталось рассмотреть ещё один вопрос о взаимосвязи старости как общесистемного ВЗЗ с онтогенезом. Последний определяет индивидуальный путь РАЗВИТИЯ особи от зиготы до смерти. Но как раз этого РАЗВИТИЯ в старости и нет. Для эволюции имеет значение только один полноценный репродуктивный период РАЗВИТИЯ. Поэтому в дикой природе старых животных практически не наблюдаются ввиду их эволюционной бесполезности. Старость – это деструктивное состояние, вызванное избыточностью систем гомеостатической адаптации, т.е. эволюционная не норма, которую человек искусственно вывел за границы эволюционного возрастного барьера. Поэтому, с этой точки зрения, старость – это возрастная патология, которая формально укладывается в рамки общесистемного ВЗЗ.
Естественно, старость есть следствие предшествующих возрастных изменений, начало которых, как уже сказано выше, формально можно связать с началом демографического увеличения вероятности смерти. Однако, до периода старости эти изменения нельзя считать уже болезнью. Например, первые признаки болезни Альцгеймера, как также уже было отмечено выше, могут быть обнаружены за несколько десятилетий до её клинического проявления, на основании которого и ставят окончательный диагноз. Но при этом мы же не называем этот период, предшествующий постановке окончательного диагноза, «альцгеймерением». Тоже касается и других известных ВЗЗ, в патогенезе которых могут быть обнаружены соответствующим ранние маркеры задолго до появления выраженной клинической картины. Это всё имеет отношение только к особенностям их патогенеза. При наличии таких ранних признаков необходимо заниматься профилактикой соответствующих ВЗЗ для предупреждения их дальнейшего развития в полноценное заболевание. В случае, например, того же атеросклероза следовать рекомендациям ЗОЖ и т.п.. Так и в случае старости до её выраженного проявления мы должны заниматься её профилактикой разными известными способами и искать новые, в том числе с использованием соответствующих биотехнологий. Но это будет именно профилактика старости, а не её лечение, так как в 20—40 лет старости как таковой ещё нет даже при наличии ее отдельных признаков. Что касается лечения самой старости как ВЗЗ, то оно только частично будет совпадать с лечением других ВЗЗ, так как при этом обязательно будет учитываться её общесистемный характер, но главный упор, конечно, должен быть сделан прежде всего на её профилактику.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, старость, начало развития которой формально совпадает с увеличением вероятности демографической смертности, вполне можно считать возраст-зависимым общесистемым мультифакториальным заболеванием, так как оно обладает всеми формальными признаками мультифакторных заболеваний. Однако, ее отличие от других ВЗЗ состоит только в одном принципиально важном обстоятельстве, которое формально НЕ ВХОДИТ в число обязательных атрибутов для признания какого-то патологического процесса болезнью. Старость как болезнь наступает абсолютно у всех жителей планеты. Если это обстоятельство не учитывать, то старость формально вполне можно рассматривать как ВЗЗ и на этом основании включить её как возрастзависимое общесистемное мультифакториальное заболевание в очередную редакцию МКБ. И ещё несколько замечаний своим потенциальным оппонентам. В природе нет таких понятий как «норма» и «патология», «здоровье» и «болезнь», «старость» и «омоложение». Они придуманы людьми, чтобы отличить одни проявления природы от других и чтобы при общении между собой было понятно, о чём идёт речь. Поэтому все вышеперечисленные понятия есть следствия условной договорённости между людьми.
Например, всем известно, что со временем все вещи теряют свои исходные свойства. Формально этот процесс изнашивания можно также назвать словом «старение», так как и в случае старения человека, мы имеем дело с одинаковой сущностью – потерей (утратой) со временем исходных функциональных характеристик объектов (человека или вещи). Иначе говоря, в природе есть независимые первичные сущности и есть их вторичная интерпретация людьми, зависящая от многих условий.
В действительности организм человека как первичная сущность со временем под действием разных эндо- и экзогенных факторов переходит из одного состояния со своими специфическими характеристиками и параметрами в другое с соответствующими изменениями последних. Люди же эти изменения стали интерпретировать на свой лад и давать им соответствующие названия (термины), в том числе такие как «старость» и «болезнь». Наверное, впервые на это обратил внимание выдающийся патолог прошлого века академик И.В.Давыдовский. В своих работах по общей патологии [7] он считал, что ВЗЗ могут быть только клиническим проявлением возрастных общепатологических процессов.
1. Ответ на вопрос: «Старость – это болезнь или нет» зависит от того, с какой позиции на него отмечать. С медицинской точки зрения, на формальном уровне её вполне можно считать общесистемным мультифакториальным ВЗЗ, патогенез которого, с биологической точки зрения, соответствует естественному процессу старения.
2. Дискуссия на эту тему, на мой взгляд, лишена какого-либо реального практического смысла, так как её итог зависит только от однозначного понимания и принятия всеми учеными самих исходных терминов, а этого как раз, к сожалению, не наблюдается.
1. Новоселов В. М. Является ли старение болезнью? // Успехи геронтологии. 2017. 30 (6): 836—840.
2. Гаврилов Л. А., Гаврилова Н. С. Является ли старение болезнью? Точка зрения биодемографов // Успехи геронтологии. 2017 30 (6): 841—842.
3. Москалев А. А. Является ли старение болезнью? Точка зрения генетика // Успехи геронтологии. 2017. 30 (6): 843—844.
4. Голубев А. Г. Является ли старение болезнью? Точка зрения биогеронтолога: старость не болезнь// Успехи геронтологии.2017.30 (6): 845—847.
5. Мякотных В. С. Является ли старение болезнью? Точка зрения врача-гериатра // Успехи геронтологии. 2017. 30 (6): 848—850.
6. Кауров Б. А. О соотношении понятий «старость» и «болезнь»// Клиническая геронтология. 2012. 18 (9—10): 55.
7. Давыдовский И. В. Общая патология человека. 2-е изд. М.: Медицина; 1969. 612 с.
The question of the relationship between such concepts as «old age» and «disease”is discussed. An attempt is made to consider this issue from a formal point of view, based on the inherent properties of these concepts. It is shown that old age can be considered as a system-wide multifactorial age-dependent disease, since it meets all the formal criteria for the recognition of this condition as a disease. The interrelation of old age with other age-dependent diseases and ontogenesis is also shown.
ВведениеОбщие признаки для старости и болезниВзаимоотношение старости с другими возраст-зависимыми заболеваниями.Взаимосвязь старости с онтогенезом.ЗаключениеВыводыЛитература AGING AS AN AGE-DEPENDENT SYSTEM-WIDE MULTIFACTORIAL DISEASE, THE PATHOGENESIS OF WHICH CORRESPONDS TO THE BIOLOGICAL PROPROCESS OF AGING. B. A. KaurovВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И ТЕОРЕТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ, СТАРЕНИЯ И ВОЗРАСТНЫХ ПАТОЛОГИЙ
В. И. Гудошников
Представлены доводы, подтверждающие важность экспериментальных и теоретических моделей для изучения морфофункциональных и молекулярных механизмов онтогенеза и болезней, связанных с возрастом. На примерах, относящихся к артериальной гипертензии, показано действие перинатальных явлений импринтинга / программирования и эмбеддинга в рамках парадигмы онтогенетической природы здоровья и болезней (DOHaD), с участием эндо- и экзогенных глюкокортикоидов. В заключение приводится обоснование необходимости организации региональных центров DOHaD, с целью консолидации исследований в этой важной области.
Прежде всего, хотелось бы отметить, что с самого начала автор данной статьи предпочитал рассматривать старение в комплексе с развитием, в рамках единого онтогенеза. Кроме того, следует иметь в виду, что представленные мнения являются результатом многолетних исследований автора в условиях in vitro, in vivo и in populo, а именно, на клеточных культурах, в опытах на лабораторных животных и наконец, в человеческих популяциях различных регионов и стран. Что объединяет все эти, весьма разнородные изыскания?
Чтобы понять такое парадоксальное сочетание методических подходов, следует начать с исторических аспектов конца 80-х годов прошлого века, когда автору довелось разрабатывать клеточные культуры печени крыс. Для выделения изолированных гепатоцитов необходимо использовать дорогостоящую коллагеназу, избирательно разрушающую межклеточный матрикс на основе коллагена.
К сожалению, для получения изолированных гепатоцитов взрослых крыс приходится применять перфузию печени in situ, что связано с весьма высоким расходом коллагеназы. Проведя многие дни в «Ленинке», автор наконец-то наткнулся на работы по гепатоцитам плодов крыс, для выделения которых можно было использовать не перфузию, а инкубацию в растворе коллагеназы, со значительно меньшим раасходом этого фермента.
Однако, вскоре получения первых результатов встал закономерный вопрос: а насколько зрелыми можно считать гепатоциты плодов? Таким образом, пришлось все-таки применить перфузию печени, но для экономии коллагеназы были выбраны предпубертатные крысята. Это положило начало экпериментальным моделям гепатоцитов крыс на разных стадиях развития для сравнительного изучения клеточных реакций на различные гормоны и другие биорегуляторы [1, 9].
Дотошный читатель, возможно, сразу воскликнет: а где же тут геронтология? Такому читателю придется набраться немного терпения, ведь все вскоре станет ясно. Как только руководство лаборатории, где работал автор, прочувствовало интерес к такого рода сравнительным исследованиям, вскоре было получено «добро» и на проведение сходных экспериментов с клеточными культурами гипофиза крыс, причем к счастью, для выделения изолированных клеток в данном случае используется трипсин, не столь дорогой, как коллагеназа.
Результаты таких экспериментов превзошли все ожидания: удалось выращивать и испытывать клеточные культуры гипофиза крыс, полученные на разных стадиях развития, практически в идентичных условиях параллельных рядов 96-луночных панелей.
Поскольку лаборатория, где работал автор, располагала также радиоиммунологическими методами определения пролактина, соматотропного гормона (СТГ) и сывороточного альбумина (СА) крыс, то это позволило оценивать клеточные реакции печени (СА) и гипофиза (СТГ, пролактин) по секреции данных белков, в сочетании с определением биосинтеза ДНК, суммарных РНК и белков по включению меченых предшественников в кислотонерастворимый материал клеток [1, 4, 7—14].
Исследования, проведенные с участием автора в конце 80-х и начале 90-х годов прошлого века, показали, что культивируемые клетки печени и гипофиза в перинатальном периоде развития обладают высокой, а иногда и повышенной чувствительностью к различным гормонам и другим биорегуляторам [7, 8]. В частности, в одной из работ на клеточных культурах гипофиза было показано, что клетки гипофиза неонатальных крысят реагировали на глюкокортикоиды (ГК) более выраженным подавлением биосинтеза ДНК и суммарных белков, по сравнению с клетками предпубертатных и взрослых животных [7]. Поэтому, по приезду в Бразилию, первой мыслью автора было проверить, а не наблюдается ли сходное явление in vivo? Оказалось, что трех инъекций синтетического ГК дексаметазона в неонатальном периоде было достаточно для необратимого (или частично обратимого) подавления соматического роста крыс, тогда как те же инъекции ГК вызывали лишь небольшую и кратковременную задержку роста у предпубертатных крысят [15].
«Ну а где же тут старение или хотя бы возрастные патологии?» – спросит дотошный и нетерпеливый читатель. Оказывается, также приблизительно с конца 80-х годов прошлого века, т.е. параллельно с нашими опытами на клеточных культурах и in vivo, группа английских эпидемиологов во главе с Дэвидом Баркером (David J.P. Barker) провела серию работ, согласно результатам которых выходило, что неблагоприятные условия в конце беременности у человека (хроническое недоедание, стресс) могут привести к внутриутробной задержке роста и следовательно, к меньшему весу тела при рождении и в годовалом возрасте, что соответствовало, через посредство явлений импринтинга / программирования, повышенному риску хронических заболеваний (сердечно-сосудистых, метаболических) уже во взрослом состоянии и в старости (см. обсуждение в [6]).
Более того, гормональными медиаторами этих явлений были названы именно гормоны стресса, эндогенные ГК. Чуть позже были высказаны предположения, что фармакотерапия синтетическими ГК (дексаметазоном, бетаметазоном) в конце беременности и у недоношенных новорожденных может вызывать сходные явления, которые мы недавно назвали фармакотоксикологическими явлениями импринтинга / программирования. Вдобавок, мы ввели также понятие фарматоксикологического эмбеддинга (embedding), которое имеет место уже в постнатальном онтогенезе и отличается кумулятивным характером, а в качестве примера мы упомянули фармакотерапию бронхиальной астмы у детей, в том числе и ингаляционными формами ГК [18].
Более активное участие автора в обсуждении механизмов старения и возрастных патологий началось с 2005 г., путем выявления и обсуждения возрастной динамики и половых различий заболеваемости и смертности, при экстрагировании относительных показателей из эпидемиологических баз данных южного региона Бразилии, а также Аргентины и Чили [20, 21].
А какая же связь с экспериментальными моделями in vitro и in vivo? Все дело в том, что выявление высокой и даже повышенной чувствительности клеток печени и гипофиза к ГК и другим гормонам и биорегуляторам в перинатальном периоде развития позволяет утверждать, что поддержание хорошо сбалансированного гормонального статуса (например, соотношения ГК и СТГ) уже в раннем онтогенезе и в последующей жизни чрезвычайно важно для нормального протекания морфофункциональных процессов и напротив, нарушения гормонального статуса способны повысить риск хронических возрастных заболеваний, начиная уже с перинатального периода, а возможно, даже и раньше [3].
Чтобы лучше проиллюстрировать это положение, рассмотрим ситуацию с артериальной гипертензией. Многочисленными исследованиями на человеческих популяциях самых разных стран и регионов было показано, что меньший вес ребенка при рождении повышает риск увеличенного артериального давления в последующей жизни [6]. Разумеется, уже очень скоро нашлись отдельные критики этих работ, пытаясь утверждать, что возможно тривиальное объяснение полученных результатов методологическими деталями статистической обработки данных. Однако, именно в этот критический момент разработки парадигмы онтогенетической природы здоровья и болезней (DOHaD) на помощь эпидемиологам пришли экспериментальные модели. Действительно, на разных видах животных (особенно у крыс и овец) было вскоре убедительно показано, что неблагоприятные условия во время беременности также способны вызывать повышенное артериальное давление в последующем онтогенезе.
Более того, в отличие от эпидемиологических исследований, весьма ограниченных в своем методическом арсенале ввиду жестких этических принципов, на экспериментальных моделях лабораторных животных были исследованы морфофункциональные, гормональные и молекулярные механизмы явлений импринтинга/ программирования. Не будем в данной работе вдаваться во все подробности обнаруженных механизмов, но приведем, по крайней мере, основные детали, полученные на экспериментальной модели поддержания беременных животных на диете с пониженным вдвое содержанием суммарных белков (с 18 до 9%), особенно во 2-й половине беременности.
Оказалось, что такое экспериментальное воздействие (которое вполне возможно, к сожалению, и в «естественных» условиях человеческих популяций слаборазвитых стран) может привести к нарушению нефрогенеза и в результате этого, к уменьшению числа нефронов – функциональных единиц почек, а впоследствии также к гиперфильтрации оставшихся нефронов и их преждевременному износу, с пониженной выживаемостью потомства уже во взрослом состоянии, среднем возрасте и особенно в старости. Более того, исследованиями Саймона Лэнгли-Эванса (Simon Langley-Evans) и его коллег в Англии было показано, что воздействие диеты с пониженным содержанием белка во время беременности может, по крайней мере отчасти, объясняться опосредующим влиянием эндогенных ГК, т.е. гормональных медиаторов явлений импринтинга / программирования [24]. На основании всех этих данных, мы предложили ранее разрабатывать две теоретические модели: онто- и филопатогенетическую (к сожалению, пока что без математического моделирования и компьютерной симуляции).
Онтопатогенетическая модель предусматривает развитие этиопатогенетических факторов и явлений на протяжении всего пре- и постнатального онтогенеза или, по крайней мере, большей его части [18]. И действительно, одной из групп исследователей удалось убедительно показать, что всего двухдневное воздействие дексаметазона в ранней беременности у овец было достаточно для повышенного артериального давления у потомства уже во взрослом состоянии [25]. Как восклицают представители этой группы, сроки воздействия дексаметазона на овцах соответствуют всего 2-месячной беременности у женщин, то есть когда многие из будущих матерей еще и не догадываются о том, что уже беременны!
Кроме того, весь постнатальный онтогенез может быть разделен на отдельные стадии, с одной стороны, согласно возрастной динамике хронических патологий [16], а с другой стороны, в соответствии с фазами постнатального развития, с различными механизмами клеточного роста (на основе гиперплазии, гипертрофии и их сочетания) [17]. Более того, у женщин динамика возрастных патологий явно указывает на ускоренное старение с наступлением менопаузы (а может быть, даже и раньше), согласно возрастным изменениям фракции женского пола в заболеваемости и смертности от ряда хронических заболеваний [5].
Наконец, хотелось бы напоследок уделить немного внимания филопатогенетической модели и эволюционным механизмам старения. Эта модель предусматривает обсуждение транс-, интер- и мультигенерационного наследования риска заболеваний, т.е. из поколения в поколение (например, от дедушек и бабушек к внукам и внучкам). Любопытно, что такое наследование (равно как и явления импринтинга / программирования) может иметь не генетический, а эпигенетический характер. Пока что мы находимся в самом начале развития этой теоретической модели, но уже ясно, что с эволюционной точки зрения, ГК могут являться посредниками импринтинга / программирования только у позвоночных, поскольку у беспозвоночных даже нет ни рецепторов, ни ферментов биосинтеза этих стероидных гормонов [22]. В связи с этим, рассуждения о роли стресса в явлениях гормезиса и аллостаза при старении следует рассматривать дифференцированно, подразделяя стресс на так называемый физиологический стресс на уровне целого организма с участием ГК и исключительно у позвоночных, и на клеточный стресс, имеющий место уже у одноклеточных и протекающий с участием так называемых белков стресса, главным образом белков теплового шока (HSP) и металлотионеинов [2]. К сожалению, взаимодействие физиологического и клеточного стресса изучено пока что совершенно недостаточно, но благодаря стараниям ряда исследователей, в том числе и бразильских, уже становится ясно, что HSP могут выделяться из клеток во внеклеточную среду, а соотношение уровней HSP внутри и вне клеток может изменяться, например, при метаболических расстройствах (см. обсуждение в [19]).
Тем не менее, предстоит еще много исследовательских усилий для характеризации взаимодействий физиологического и клеточного стресса. Ясно, однако, другое: упор некоторых исследователей на изучение старения у беспозвоночных (например, у плодовых мушек или нематод) может привести к результатам, весьма далеким от старения позвоночных, для изучения которого неизбежно использование сравнительно короткоживущих млекопитающих, главным образом крыс и мышей (по крайней мере, в том, что касается роли физиологического стресса и ГК). Так что, особенно нетерпеливым читателям следует учитывать, что для разработки онто- и филопатогенетических моделей на основе экспериментальных работ могут уйти многие годы, если не десятилетия, но полученные данные, в сочетании с результатами ретроспективных эпидемиологических исследований, могут пролить свет на некоторые механизмы старения и возрастных патологий.
Следовательно, как экспериментальные, так и теоретические модели чрезвычайно важны, поэтому и применяются весьма активно в парадигме онтогенетической природы здоровья и болезней (DOHaD). На наш взгляд, для интенсификации таких исследований необходимо создание региональных центров DOHaD, которые способствовали бы как эпидемиологическим разработкам, так и исследованиям на основе экспериментальных моделей [23]. Для этого, разумеется, необходима, прежде всего, финансовая помощь со стороны различных организаций, а также моральная поддержка от всех биомедицинских исследователей, в том числе геронтологов и гериатров.
1. Баранова И. Н., Гудошников В. И., Федотов В. П. Гормональная регуляция продукции сывороточного альбумина культивируемыми гепатоцитами крыс в пре- и постнатальном периоде развития // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 1990. Т.109. No.6. С.581—583.
2. Гудошников В. И. Роль белков и гормонов стресса в биорегуляции онтогенеза // Проблемы эндокринологии. 2015. Т.61. No.4. С.49—53.
3. Гудошников В. И. Роль гормонов в перинатальном и раннем постнатальном развитии: Возможное участие в явлениях импринтинга / программирования // Онтогенез. 2015. Т.46. No.5. С.285—294.
4. Гудошников В. И., Мамаева Т. В., Федотов В. П. Влияние стероидных гормонов и норадреналина на секрецию соматотропного гормона первичными культурами гипофизоцитов крыс различного возраста // Проблемы эндокринологии. 1994. Т.40. No.1. С.39—41.
5. Гудошников В. И., Прохоров Л. Ю. Ускоренное старение с нааступлением менопаузы: Возможная связь с гормональными изменениями и белками стресса // Проблемы старения и долголетия (Киев). 2012. Т.21. No.3. С.274—279.
6. Гудошников В. И., Прохоров Л. Ю. Важный вклад перинатального питания и гормонального импринтинга / программирования в патогенез зависимых от возраста заболеваний // Проблемы старения и долголетия (Киев). 2016. Т.25. No.1. С.50—58.
7. Гудошников В. И., Федотов В. П. Повышенная чувствительность гипофизарных клеток неонатальных крысят к кортикостероидам // Проблемы эндокринологии. 1992. Т.38. No.1. С.61—64.
8. Гудошников В. И., Федотов В. П. Повышенная чувствительность гипофизарных клеток неонатальных крысят к бромокриптину и мелатонину // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 1993. Т.115. No.2. С.197—199.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.