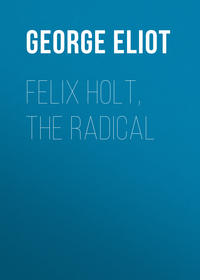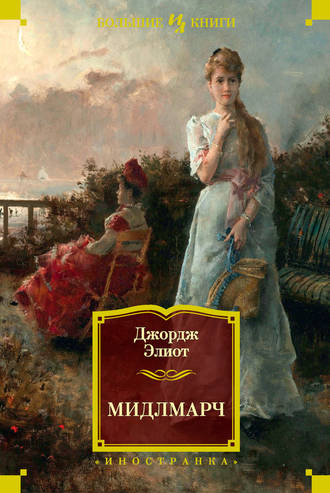
Полная версия
Мидлмарч
– Притчард, постучите к мистеру Фреду еще раз и скажите, что уже пробило половину одиннадцатого.
При этом лицо миссис Винси, на которое сорок пять прожитых ею лет не нанесли ни углов, ни параллелей, продолжало сиять благодушием. Поправив розовые завязки чепца, она залюбовалась дочерью и оставила работу лежать на коленях.
– Мама, – сказала Розамонда, – когда Фред сойдет завтракать, не давайте ему селедки. Я не терплю, когда в доме с утра стоит этот запах.
– Душечка, ты совсем уж братьям житья не даешь. Больше мне тебя и упрекнуть не в чем. Ты у нас и добрая и ласковая, но только всегда братьев пилишь.
– Не пилю, мама. Вы ведь не слышали, чтобы я хоть раз сказала что-нибудь вульгарное.
– Но ты их все время утесняешь.
– А если у них такие неприятные привычки!
– Нужно быть снисходительней к молодым людям, душечка. Сердце у них хорошее, надо и этому радоваться. Женщине лучше не обращать внимания на мелочи. Ведь тебе замуж выходить.
– За кого бы я ни вышла, на Фреда он похож не будет.
– Напрасно ты так смотришь на своего брата, душечка. Против других молодых людей он сущий ангел, хоть и не сумел сдать экзамен. Право, не понимаю почему, он же такой умный. И ты сама знаешь, что в университете все его знакомые были из самых лучших семей. При твоей взыскательности, душечка, тебе бы радоваться, что твой брат – настоящий молодой джентльмен. Ты же постоянно выговариваешь Бобу, потому что он не Фред.
– Ах нет, мама! Просто потому, что он Боб!
– Что же, душечка, в Мидлмарче не найдется ни одного молодого человека без недостатков.
– Но… – Тут на лице Розамонды появилась улыбка, а с ней – две ямочки. Сама Розамонда эти ямочки терпеть не могла и в обществе почти не улыбалась. – Но я ни за кого из Мидлмарча замуж не пойду.
– Да уж знаю, деточка, ты ведь отвадила самых отборных из них. Ну а если найдется кто-нибудь получше, так кто же его достоин, как не ты.
– Простите, мама, но мне не хотелось бы, чтобы вы говорили: «самые отборные из них».
– Так ведь они же самые отборные и есть!
– Это вульгарное выражение, мама.
– Может быть, может быть, душечка. Я ведь никогда не умела правильно выражаться. А как надо сказать?
– Самые лучшие из них.
– Да ведь это тоже простое и обычное слово! Будь у меня время подумать, я бы сказала: «Молодые люди, превосходные во всех отношениях». Ну да ты со своим образованием лучше знаешь.
– И что же такое Рози знает лучше, маменька? – спросил мистер Фред, который неслышно скользнул в полуотворенную дверь, когда мать и дочь снова склонились над своим рукоделием, и, встав спиной к камину, принялся греть подошвы домашних туфель.
– Можно или нет сказать: «молодые люди, превосходные во всех отношениях», – ответила миссис Винси, беря колокольчик.
– А, теперь появилось множество сортов чая и сахара, превосходных во всех отношениях. «Превосходный» прочно вошло в жаргон лавочников.
– Значит, ты начал осуждать жаргон? – мягко спросила Розамонда.
– Только дурного тона. Любой выбор слов – уже жаргон. Он указывает на принадлежность к тому или иному классу.
– Но есть правильный литературный язык. Это не жаргон.
– Извини меня, правильный литературный язык – это жаргон ученых педантов, которые пишут исторические труды и эссе. А самый крепкий жаргон – это жаргон поэтов.
– Ты говоришь невозможные вещи, Фред. Тебе лишь бы настоять на своем.
– Ну скажи, это жаргон или поэзия, если назвать быка «тугожильным»?
– Разумеется, можешь назвать это поэзией, если хочешь.
– Попались, мисс Рози! Вы не способны отличить Гомера от жаргона. Я придумал новую игру: напишу на листочках жаргонные выражения и поэтические, а ты разложи их по принадлежности.
– До чего же приятно слушать, как разговаривает молодежь! – сказала миссис Винси с добродушным восхищением.
– А ничего другого у вас для меня не найдется, Притчард? – спросил Фред, когда на стол были поставлены кофе и тартинки, и, обозрев ветчину, вареную говядину и другие остатки холодных закусок, безмолвно отверг их с таким видом, словно лишь благовоспитанность удержала его от гримасы отвращения.
– Может быть, скушаете яичницу, сэр?
– Нет, никакой яичницы! Принесите мне жареные ребрышки.
– Право же, Фред, – сказала Розамонда, когда служанка вышла, – если ты хочешь есть за завтраком горячее, то мог бы вставать пораньше. Ты бываешь готов к шести часам, когда собираешься на охоту, и я не понимаю, почему тебе так трудно подняться с постели в другие дни.
– Что делать, если ты такая непонятливая, Рози! Я могу встать рано, когда еду на охоту, потому что мне этого хочется.
– А что бы ты сказал про меня, если бы я спускалась к завтраку через два часа после всех остальных и требовала жареные ребрышки?
– Я бы сказал, что ты на редкость развязная барышня, – ответил Фред, невозмутимо принимаясь за тартинку.
– Не вижу, почему братья могут вести себя противно, а сестер за это осуждают.
– Я вовсе не веду себя противно. Это ты так думаешь. Слово «противно» определяет твои чувства, а не мое поведение.
– Мне кажется, оно вполне определяет запах жареных ребрышек.
– Отнюдь! Оно определяет ощущения в твоем носике, которые ты связываешь с жеманными понятиями, преподанными тебе в пансионе миссис Лемон. Посмотри на маму. Она никогда не ворчит и не требует, чтобы все делали только то, что нравится ей самой. Вот какой должна быть, на мой взгляд, приятная женщина.
– Милые мои, не надо ссориться, – сказала миссис Винси с материнской снисходительностью. – Лучше, Фред, расскажи нам про нового доктора. Он понравился твоему дяде?
– Как будто очень. Он задавал Лидгейту один вопрос за другим, а на ответы только морщился, словно ему наступали на ногу. Такая у него манера. Ну вот и мои ребрышки.
– Но почему ты вернулся так поздно, милый? Ты ведь говорил, что только побываешь у дяди.
– А, я обедал у Плимдейла. Мы играли в вист. Лидгейт тоже там был.
– Ну и что ты о нем думаешь? Наверное, настоящий джентльмен. Говорят, он из очень хорошей семьи – его родственники у себя в графстве принадлежат к самому высшему обществу.
– Да, – сказал Фред. – В университете был один Лидгейт: так и сорил деньгами. Доктор, как выяснилось, приходится ему троюродным братом. Однако у богатых людей могут быть очень бедные троюродные братья.
– Но хорошее происхождение – это хорошее происхождение, – сказала Розамонда решительным тоном, который показывал, что она не раз размышляла на эту тему. Розамонда чувствовала, что была бы счастливей, не родись она дочерью мидлмарчского фабриканта. Она не любила никаких напоминаний о том, что отец ее матери содержал гостиницу. Впрочем, всякий, кто вспомнил бы об этом обстоятельстве, почти наверное подумал бы, что миссис Винси очень походит на красивую любезную хозяйку гостиницы, привыкшую к самым неожиданным требованиям своих постояльцев.
– Странное имя у него – Тертий, – сказала эта добродушная матрона. – Ну да конечно, оно у него родовое. А теперь расскажи поподробнее, какой он.
– Довольно высок, темноволос, умен… хорошо говорит, но, на мой вкус, немножко как самодовольный педант.
– Я никогда не могла понять, что ты подразумеваешь под словами «самодовольный педант», – сказала Розамонда.
– Человека, который старается показать, что у него обо всем есть свое мнение.
– Так ведь, милый, у докторов и должны быть мнения, – заметила миссис Винси. – Их для того и учат.
– Да, маменька, – мнения, за которые им платят. А самодовольный педант навязывает вам свои мнения даром.
– Полагаю, мистер Лидгейт произвел большое впечатление на Мэри Гарт, – произнесла Розамонда многозначительным тоном.
– Право, не знаю, – ответил Фред с некоторой мрачностью, встал из-за стола и, взяв роман, который принес с собой из спальни, бросился в кресло.
– А если ты ей завидуешь, – добавил он, – то бывай почаще в Стоун-Корте и затми ее.
– Я бы хотела, чтобы ты не был таким вульгарным, Фред. Если ты кончил, то позвони.
– Но твой брат сказал правду, Розамонда, – начала миссис Винси, когда служанка убрала со стола и ушла. – Очень грустно, что ты не можешь заставить себя чаще бывать у дяди. Он же гордится тобой и даже приглашал тебя жить у него. Ведь он много мог бы сделать не только для Фреда, но и для тебя. Бог видит, какое для меня счастье, что ты живешь дома со мной, но ради пользы моих детей я найду силы с ними расстаться. Теперь же, надо полагать, ваш дядя Фезерстоун уделит что-то Мэри Гарт.
– Мэри Гарт терпит жизнь в Стоун-Корте, потому что служить в гувернантках ей нравится еще меньше, – сказала Розамонда, складывая свое рукоделие. – А мне не нужно никакого наследства, если ради него я должна сносить кашель дядюшки и общество его противных родственников.
– Он не жилец на этом свете, душечка. Я, конечно, не желаю ему смерти, но при такой астме и внутренних болях следует надеяться, что он найдет отдохновение на том свете. И Мэри Гарт я ничего дурного не желаю, но справедливость есть справедливость. За своей первой женой мистер Фезерстоун никаких денег не взял, не то что за моей сестрой. А потому у ее племянников и племянниц меньше прав, чем у племянников и племянниц моей сестры. И правду сказать, Мэри Гарт до того некрасива, что ей только гувернанткой и быть.
– Тут, маменька, с вами не все согласятся, – заметил мистер Фред, который, по-видимому, был способен и читать и слушать одновременно.
– Что же, милый, пусть даже ей и будет что-нибудь завещано, человек ведь женится на родне жены, а Гарты живут мизерно, хоть во всем себе отказывают, – сказала миссис Винси, искусно обходя скользкое место. – Ну, я не стану больше мешать твоим занятиям, милый. Мне надо кое-чего купить.
– О, таким занятиям Фреда помешать трудно, – сказала Розамонда, тоже вставая. – Он ведь просто читает роман.
– Почитает-почитает, да и возьмется за латынь, – примирительно сказала миссис Винси, погладив сына по голове. – В курительной для этого камин затоплен. Ты ведь знаешь, Фред, милый ты мой, что этого хочет твой отец, а я ему все время повторяю, что ты позанимаешься, вернешься в университет и сдашь экзамен.
Фред взял руку матери и поцеловал ее, но ничего не ответил.
– Наверное, ты сегодня на верховую прогулку не собираешься? – спросила Розамонда, когда миссис Винси вышла.
– Нет. А что?
– Папа разрешил мне теперь ездить на караковой.
– Если хочешь, можешь поехать со мной завтра. Только помни, что я поеду в Стоун-Корт.
– Я так мечтаю о верховой прогулке, что мне все равно, куда мы поедем.
На самом же деле Розамонда очень хотела поехать именно в Стоун-Корт.
– Послушай, Рози, – сказал Фред, когда она была уже в дверях, – если ты будешь сейчас музицировать, то я часок с тобой поупражняюсь.
– Только не сегодня!
– А почему не сегодня?
– Право, Фред, мне хотелось бы, чтобы ты вообще бросил флейту. Когда мужчина играет на флейте, у него такой глупый вид! И ты все время фальшивишь.
– Я расскажу следующему вашему ухажеру, мисс Розамонда, как вы любите оказывать людям одолжения.
– А почему я должна оказывать тебе одолжения, слушая, как ты играешь на флейте, а не ты мне, бросив играть на ней?
– А почему я должен брать тебя с собой на верховую прогулку?
Этот вопрос оказал необходимое воздействие, так как Розамонда не собиралась отказываться от задуманной поездки.
И Фред, добившись своего, почти час разучивал «Ar hyd у nos», «О горы и долины» и прочие любимые мелодии, содержавшиеся в его «Самоучителе игры на флейте», с большим рвением и неукротимой надеждой извлекая из инструмента довольно хриплые завывания.
Глава XII
Какую он измыслил штуку,Не знал Жервез.Джеффри Чосер. Кентерберийские рассказыПуть в Стоун-Корт, куда на следующее утро отправились верхом Фред и Розамонда, вел через живописные луга, разделенные живыми изгородями, которые все еще сохраняли свою пышную красоту и манили птиц коралловыми ягодами. И каждый луг выглядел по-своему для тех, кто с детства знал каждую их особенность: осененный шепчущимися деревьями пруд в конце одного, где трава была особенно густой и зеленой, а посреди другого – развесистый дуб, в тени которого трава почти не росла; пригорок с высокими ясенями; рыжий откос над заброшенным карьером, отличный фон для густых зарослей репейника; крыши и риги фермы, куда как будто не вело никакой дороги; серые ворота и забор, опоясывающий опушку соседнего леска, и ветхая лачужка, чья старая кровля словно сложена из мшистых холмов и долин, чарующих удивительной игрой света и теней, – вырастая, мы отправляемся в дальние путешествия, чтобы увидеть такие же холмы и долины, правда много больших размеров, но не более красивые. Все это слагается в ландшафт Средней Англии, радующий душу ее уроженцев, – они гуляли здесь, едва научившись ходить, а может быть, запомнили каждую подробность, стоя между колен отца, правящего неторопливо трусящей лошадью.
Однако дорога, хотя и проселочная, была превосходна, ибо Лоуик, как мы уже убедились, не был приходом с ухабистыми проселками и бедными арендаторами, а Фред и Розамонда, проехав две мили, оказались в пределах Лоуика. До Стоун-Корта оставалась еще миля, но уже через полмили они увидели дом, который словно бы не вырос в каменный дворец только потому, что с левого его бока вдруг появились хозяйственные службы и ему пришлось остаться просто добротным жилищем джентльмена-фермера. С этого расстояния он производил особенно приятное впечатление, так как группа островерхих хлебных амбаров создавала симметричное дополнение к аллее прекрасных каштанов справа.
Вскоре на кругу перед парадным крыльцом уже можно было различить какой-то экипаж.
– Ах! – воскликнула Розамонда. – Неужели это кто-нибудь из ужасных дядюшкиных родственников?
– Ты совершенно права. Это двуколка миссис Уол – последняя желтая двуколка на свете, думается мне. Когда я вижу миссис Уол в ее двуколке, я начинаю понимать, почему желтый цвет где-то считается траурным. У этой двуколки, по-моему, более похоронный вид, чем у любого катафалка. Впрочем, миссис Уол всегда носит черный креп. Как это она умудряется, Рози? Ведь не может быть, чтобы ее родственники непрерывно умирали.
– Не имею ни малейшего представления. Она даже не евангелистка, – сказала Розамонда задумчиво, словно принадлежность к этому религиозному толку могла объяснить вечный черный креп.
– И ведь она не бедна, – добавила Розамонда после некоторого молчания.
– Еще бы! Они богаты, как ростовщики, и Уолы, и Фезерстоуны. То есть они из тех, кто скорей удавится, чем потратит лишний фартинг. И тем не менее они кружат возле дядюшки, точно вороны, и трепещут при мысли, что хоть один фунт уплывет мимо их рук. Но по-моему, он их всех терпеть не может.
Миссис Уол, которая вызывала у своих дальних свойственников чувства, столь мало напоминающие восхищение, в это самое утро заявила (отнюдь не решительно, а тихим, ничего не выражающим голосом, словно сквозь вату), что не хотела бы, чтобы они были о ней «доброго мнения». Она напомнила, что сидит у очага собственного брата и что, прежде чем стать Джейн Уол, двадцать пять лет была Джейн Фезерстоун, а потому не может молчать, когда именем ее брата злоупотребляют те, кто не имеет на него никакого права.
– На что это ты намекаешь? – спросил мистер Фезерстоун, зажав трость между коленей и поправляя парик. Он бросил на сестру проницательный взгляд и закашлялся, словно его обдало ледяным сквозняком.
Миссис Уол пришлось ждать с ответом до тех пор, пока Мэри Гарт не подала ему смягчающий сироп и приступ кашля не прошел. Поглаживая золотой набалдашник трости, мистер Фезерстоун угрюмо смотрел на огонь. Огонь пылал ярко, но лицо миссис Уол сохраняло лиловатый знобящий оттенок – лицо это с глазами-щелочками не выражало ничего, как и голос, и даже губы почти не шевелились, когда она говорила.
– Где уж врачам вылечить такой кашель, братец! Вот и я так же кашляю, ведь я ваша сестра и по конституции, и во всем остальном. Но, как я уже говорила, очень жаль, что дети миссис Винси такие распущенные.
– Пф! Ничего подобного ты не говорила. Ты сказала, что кто-то злоупотребляет моим именем.
– Да так оно и есть, недаром ведь люди говорят. Братец Соломон сказал мне, что в Мидлмарче только и разговоров, какой шалопай молодой Винси – не успел вернуться домой, а уже день и ночь в бильярд денежки просаживает.
– Чепуха! Бильярд не азартная игра, это развлечение джентльменов. Да и молодой Винси – не какой-нибудь мужлан. Вот вздумай твой сыночек Джон играть на бильярде, так был бы он дурак дураком.
– Ваш племянник Джон ни в бильярд, ни в какие другие азартные игры не играет, братец, и не проигрывает сотни фунтов, которые, если люди правду говорят, он не от папаши, не от мистера Винси получает. Он, говорят, уже много лет одни убытки терпит, хоть это никому и в голову не придет, глядя, как он роскошествует и держит открытый дом. И я слышала, что мистер Булстрод очень осуждает миссис Винси за то, что у нее ветер в голове и детей своих она совсем избаловала.
– А мне какое дело до Булстрода? Я в его банке денег не держу.
– Да ведь миссис Булстрод родная сестра мистера Винси, и все говорят, что мистер Винси ведет дело на денежки из банка, да и сами посудите, братец: когда женщине за сорок, а она вся в розовых лентах и смеется как ни попадя, тут ничего хорошего нет. Только одно дело баловать детей, а искать денежки, чтобы платить за них долги, – совсем другое. А все прямо говорят, что молодой Винси занимал под свои ожидания. А уж чего он там ожидает, этого я сказать не могу. Вот мисс Гарт меня слышит, и пусть на здоровье повторяет, кому хочет. Я знаю, молодежь всегда стоит друг за друга.
– Благодарю вас за разрешение, миссис Уол, – сказала Мэри Гарт. – Но я так не люблю слушать сплетни, что повторять их, конечно же, не стану.
Мистер Фезерстоун погладил набалдашник трости и испустил короткий судорожный смешок, столь же искренний, как улыбка, с какой старый любитель виста смотрит на скверные карты, которые ему сдали. По-прежнему не отводя глаз от огня, он сказал:
– А кто это утверждает, что Фреду Винси нечего ожидать? Такому молодцу, как он?
Миссис Уол ответила не сразу, а когда ответила, ее голос словно увлажнился слезами, хотя лицо осталось сухим.
– Так или нет, братец, а мне и братцу Соломону горько слышать, как вашим именем злоупотребляют, раз уж болезнь у вас такая, что может унести вас в одночасье, а люди, которые такие же Фезерстоуны, как зазывалы на ярмарке, в открытую рассчитывают, что ваше состояние перейдет к ним. А я-то, ваша родная сестра, и Соломон, ваш родной брат! Так для чего же тогда Всевышний даровал человекам семьи? – Вот тут миссис Уол пролила слезы, хотя и в умеренном количестве.
– Говори прямо, Джейн! – сказал мистер Фезерстоун, повернувшись к ней. – Ты намекаешь, что Фред Винси занял у кого-то деньги под залог того, что он якобы должен получить по моему завещанию?
– Этого, братец, я не говорила. – Голос миссис Уол вновь стал сухим и бесцветным. – Так мне сказал братец Соломон вчера вечером, когда заехал на обратном пути с рынка, чтобы посоветовать, как мне быть с прошлогодней пшеницей: ведь я же вдова, а сыночку моему Джону всего двадцать три года, хотя серьезен он не по летам. А он слышал это от самых надежных людей – и не от одного, а от многих.
– Бабьи сплетни! Я ни слову из этого не верю. Одни выдумки. Подойди-ка к окну, девочка. Как будто кто-то едет верхом. Не доктор ли?
– Только не мной это выдумано, братец, и не Соломоном. Ведь он-то, каков бы он ни был – а странности за ним водятся, не стану спорить, – он-то составил завещание и разделил свое имущество поровну между родственниками, с которыми он в дружбе. Хотя, на мой взгляд, бывают случаи, когда одних следует отличать перед другими. Но Соломон из своих намерений тайны не делает.
– Ну и дурак! – с трудом выговорил мистер Фезерстоун и разразился таким кашлем, что Мэри Гарт бросилась к нему, так и не узнав, кто приехал на лошадях, чьи копыта процокали под окном к крыльцу.
Мистер Фезерстоун еще кашлял, когда в комнату вошла Розамонда, которая в амазонке выглядела даже грациознее, чем обычно. Она церемонно поклонилась миссис Уол, а та произнесла сухо:
– Как поживаете, мисс?
Розамонда с улыбкой кивнула Мэри и осталась стоять, дожидаясь, чтобы дядя справился со своим кашлем и заметил ее.
– Ну-ну, мисс, – сказал он наконец, – очень ты разрумянилась. А где Фред?
– Повел лошадей на конюшню. Он сейчас придет.
– Садись-ка, садись. Миссис Уол, не пора ли тебе ехать?
Даже те соседи, которые прозвали Питера Фезерстоуна старым лисом, не могли бы поставить ему в упрек лицемерную вежливость, и его сестра давно привыкла к тому, что с родственниками он обходится совсем уж бесцеремонно. Впрочем, по ее убеждению, Всевышний, даруя человекам семьи, предоставил им полную свободу от взаимной любезности. Она медленно встала без малейших признаков досады и произнесла обычным своим приглушенным и бесцветным голосом:
– Братец, желаю, чтобы новый доктор сумел вам помочь. Соломон говорит, что его очень хвалят. И уж конечно, я уповаю, что ваш час еще далек. А ухаживать за вами заботливей вашей родной сестры и ваших родных племянниц никто не будет, скажите только слово. И Ребекка, и Джоанна, и Элизабет – вы ведь сами знаете.
– Как же, как же, помню! Сама увидишь, что я их не забыл, – все трое темноволосые и одна другой некрасивее. Им ведь деньги пригодятся, э? В нашем роду красивых женщин никогда не бывало, но у Фезерстоунов всегда водились деньги, и у Уолов тоже. Да, у Уола деньги водились. Солидный человек был Уол. Да-да, деньги – хорошее яичко, и если они у тебя есть, так оставь их в теплом гнездышке. Счастливого пути, миссис Уол.
Мистер Фезерстоун обеими руками потянул свой парик, словно намереваясь закрыть уши, и его сестра удалилась, размышляя над его последними словами, загадочными, как изречение оракула. Как ни опасалась она молодых Винси и Мэри Гарт, под всеми наносами в ее душе пряталось убеждение, что ее брат Питер Фезерстоун ни в коем случае не завещает свою недвижимость помимо кровных родственников: а то зачем бы Всевышний, не послав ему потомства, прибрал обеих его жен, когда он столько нажил на магнезии и еще на всякой всячине, да так, что люди только диву давались? И зачем тогда в Лоуике есть приходская церковь, где Уолы и Паудреллы из поколения в поколение делили одну скамью, а Фезерстоуны сидели на соседней, если на следующее же воскресенье после кончины ее братца Питера люди узнают, что его родня осталась ни при чем? Человеческое сознание не способно воспринимать нравственный хаос: подобный возмутительный исход был просто немыслим. Но как часто мы страшимся того, что просто немыслимо!
Когда вошел Фред, старик посмотрел на него с веселой искоркой в глазах, которую молодой человек нередко имел основания истолковывать как одобрение его щеголеватому виду.
– Вы, девицы, подите себе, – сказал мистер Фезерстоун. – Мне надо поговорить с Фредом.
– Пойдем ко мне в комнату, Розамонда. Там, правда, холодно, но немножко ведь ты потерпишь, – сказала Мэри.
Девушки не только были знакомы с детства, но и учились в одном пансионе (Мэри, кроме того, занималась там с младшими девочками), а потому их связывали общие воспоминания и они любили поболтать наедине. Собственно говоря, отчасти из-за этого tête-à-tête[8] Розамонда и хотела поехать в Стоун-Корт.
Мистер Фезерстоун молча ждал, пока дверь за ними не затворилась. Он смотрел на Фреда все с той же искоркой в глазах и пожевывал губами, как у него было в обыкновении. А заговорил он тихим голосом, который больше подошел бы доносчику, намекающему на то, что его можно купить, чем обиженному старшему родственнику. Отступления от правил общественной морали не вызывали у него нравственного негодования, даже когда он сам мог стать их жертвой. Ему представлялось совершенно в порядке вещей, что другие хотят поживиться за его счет, да только он-то им не по зубам.
– Так, значит, сударь, ты платишь десять процентов за ссуду, которую обязался вернуть, заложив мою землю, когда я отойду к праотцам, э? Ну, скажем, ты дал мне год жизни. Но ведь у меня еще есть время изменить завещание.
Фред покраснел. Денег на подобных условиях он по понятным причинам не занимал, но действительно говорил – и, возможно, с куда большей уверенностью, чем ему помнилось, – о том, что сумеет расплатиться с нынешними своими долгами, получив землю Фезерстоуна.
– Я не понимаю, что вы имеете в виду, сэр. Никаких денег я никогда под подобный ненадежный залог не занимал. Объясните мне, будьте так добры.
– Нет уж, сударь, это ты объясняй. У меня ведь есть еще время изменить завещание, вот так-то. Я в здравом уме: могу без счетов вычислить сложные проценты и назвать по фамилии всех дураков не хуже, чем двадцать лет назад. Да и какого черта? Мне еще нет восьмидесяти. Но вот что я тебе скажу: ты давай-ка возражай.