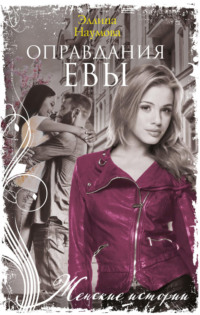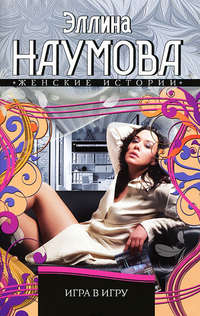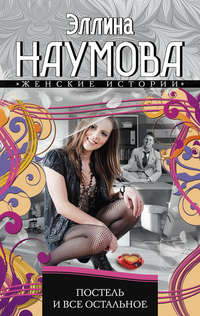Полная версия
Будь моим отцом
Алла Константиновна вновь не сообразила, что это – доброжелательность. Готовность не осудить человека, а узнать его и поразиться. Измученная гостьями женщина среагировала только на внешность и подумала: «Явно в отца девочка».
Будь у нее время отстраненно поразмыслить, она вряд ли сказала бы то, что сказала. Это было глупо, сентиментально, попросту вредно для девчонки, а то и нехорошо по отношению к Ане. Кто знает, рада она была бы таким откровениям или наоборот. Мало ли что ляпнешь случайной приятельнице на первом курсе. Детям об этом сообщать через много лет вовсе не обязательно. Но Лера тихо спросила:
– Вы вспомнили что-то? Кем мой папа хотя бы мог быть?
И Алла Константиновна почему-то сухо ответила:
– Для начала повторю главное. Я представления не имею, как жила Аня после института. Более того, я смутно представляю, как она жила после первого курса. Она была хорошим человеком и однажды сделала такое нечаянное для меня добро, что вряд ли я вправе тебе лгать, будто мы не говорили на тему деторождения. Только подчеркиваю, разговор состоялся ориентировочно в семьдесят восьмом году. Надо думать, лет за восемь-девять до твоего появления на свет?
– За девять, – прошептала Лера, боясь вспугнуть то, что она считала удачей.
– Вот видишь, за такой срок меняются человеческие представления о чем угодно.
– Алла Константиновна, вы меня уже до истерики напугали. Создается впечатление, что мама грезила людоедом, – не выдержала Лера.
Тон был насмешливым, а не злобным или отчаянным, что понравилось маниакально кружившей вокруг да около хозяйке. Она уже почти додумалась поинтересоваться, говорила ли мать дочери, от кого ее родила. Но эта нетерпеливая дочь постоянно сбивала ее с верных мыслей. И Алла Константиновна выпалила:
– Не людоедом, а старым евреем.
Протянутая за чашкой с давно остывшим чаем рука гостьи замерла в воздухе.
– Кем-кем?
– Старым евреем. Ты шокирована?
– Н-нет, – через паузу и с запинкой сказала Лера. И взяла в руки не чашку, а себя. Похоже, кадрами в частных банках заведовали хладнокровные девушки. – Не обращайте внимания на реакцию. Просто… Знаете, мамины родственники в Подольске… Такая простая русская семья… Вообразить, что кто-то из родни собрался замуж за, мягко говоря, иноверца… Считается, что они хоть и умные, но порядочно ведут себя только со своими, а обманывать чужих им не зазорно… Я с ними работаю, прекрасные люди, но… Не представляю, как ввести такого в дом к тете, дяде… Ни за что не примут.
Алла Константиновна понятливо кивнула. Даже сейчас, во втором десятилетии двадцать первого века, такое неуклюжее объяснение не требовало уточнений. А тогда мечта родить от женатого, обремененного взрослыми детьми, не собирающегося бросать семью еврея, высказанная вслух, звучала гораздо непристойнее, чем описание полового акта с ним. Нет, кое-кто из девчонок ради отметки ложился под экзаменатора любой национальности. И все разумели, что для дуры это единственный способ не вылететь из института. Но бредить сексом с дедком, чтобы забеременеть, да еще твердить, мол, обрезание удваивает женское наслаждение, могла только сумасшедшая.
– У Ани была своеобразная теория. Надо отдаться доктору медицинских наук, профессору и родить от него. Он свое дитя и его мать никогда не бросит, то есть хорошо обеспечит, потому что еврей. И когда охладеет к любовнице, не станет препятствовать ее близости с другим мужчиной. В том смысле, что щедрые выплаты на ребенка не прекратятся, – мягко сказала Алла Константиновна.
– Доктору наук? – задумчиво переспросила Лера. – Медицинских?
Кажется, ей стало легче. И хозяйка поспешила закрыть неловкую тему:
– Я думаю, когда-то какая-то юная труженица с кафедры действительно подзалетела от профессора-еврея. Аборт делать отказалась. А неподнятый скандал требовала оплатить студенческим билетом себе и деньгами ребенку, пока не вырастет. Мужчина согласился. Или обошлось без нажима. Были любовь, страсть и желание продолжиться в общем дитятке. Случается, хотя гораздо реже, чем шантаж. Эта единственная история и передавалась годами, а то и десятилетиями от секретарши к секретарше. Легенда. Почему-то твоя мама серьезно к ней отнеслась. Сказочный вариант засел в ее голове крепко. И как долго там продержался, не знаю.
– То есть она всего лишь была не против такой судьбы?
– Лера, я рассказала тебе все. Вузовские преподаватели – бабники поневоле. Каждый год вокруг появляются новые, все более раскованные красотки. Попробуй удержаться от соблазна. Но полагаю, доктора наук способны учиться на ошибках коллег и детей делают нечасто.
– Но мама блондинка, а я темноволосая и черноглазая! – запротестовала девушка.
– Вот этого я и боялась, – тоскливо вздохнула женщина. – Не заставляй меня проклинать собственный язык. Разве все брюнеты принадлежат одной национальности? И потом, Аня бегала на кафедру пару лет, пока там были знакомые девочки. Они поступили, их места заняли незнакомки. А навещать заведующих… Это из области фантастики… Неуловимые и труднодоступные из-за огромной занятости господа.
– и все-таки фамилия, имя, отчество у этого… Кстати, почему вы о завкафедрой во множественном числе говорите? – не отступила настырная гостья.
– Да тогда из-за ремонта и строительства в одном здании довольно долго ютились две клиники, две кафедры. И обеими руководили пожилые заслуженные евреи. Оба, имей в виду, завидные семьянины – жены, дети. Твоя мама работала секретарем в терапии. Но хирургия была совсем рядом. Послушай, Лера, ну, нет шансов, что кто-то из них твой отец. Извини, слухи долетали… Оба мужика были ходоками с громадным стажем… Умели избегать сюрпризов. Я же не только для очистки совести тебе правду рассказываю. Ты должна учитывать, что у Ани возникали экзотические и смелые идеи. Но вела она себя очень тихо и скромно. Ты же только что описала свою родню. Она была такой же. И еще… Однажды она привела на вечеринку одноклассницу. Как-то странно ее называла… А, вспомнила, Клавдюша. Эта самая Клавдюша работала медсестрой и откровенно завидовала будущим врачам. Есть такие сестрички, которые уверены, что больше докторов знают и умеют. Свое превосходство над нами она выражала своеобразно – ни с кем не разговаривала и третировала Аню. Та только посмеивалась и утешала ее комплиментами. Мол, Клавдюша у нас самая умная, самая красивая, у нее жених замечательный. Мы бесились, шептались, что Тимофеева из-за каких-то комплексов потворствует наглости и хамству. Она же просто так дружила. Понимаешь? Добрая душа. Я не представляю, как Аня расчетливо соблазняет матерого ловеласа. Подлости не хватило бы… Слушай, а эта Клавдюша могла знать, кто твой отец. Ты с ней не связывалась?
– Я ее не помню. – Девушка наморщила высокий лоб, но он быстро разгладился. – Скорее всего, она прекратила общаться с мамой, как только вышла за своего замечательного жениха.
– Во всяком случае, некая осведомленная Клавдия была в Аниной молодости. Больше мне нечего тебе сообщить. Еще чайку? – Алла Константиновна давала понять, что закончила.
На самом деле она вовсе не была уверена в том, что Аня Тимофеева не добилась своего от одного из престарелых сластолюбцев. Этих-то пористой кожей лица, бесформенным носом и маленьким ростом не смутишь. Тем более при наличии остальных внешних достоинств. И при явном томлении девушки за двадцать. Роман со студенткой был опасен, но с интерном напоследок можно было и согрешить. Вдруг она проходила интернатуру там же, где начинала секретарем? Вполне можно было явиться к профессору и попроситься к нему в клинику на год. Своим, начинавшим за пишущей машинкой, поступившим, выучившимся, не отказывали. Уж помогать, так до конца. Если бы не существовало такого рода «мелкого блата», один «крупный» доконал бы социализм гораздо быстрее. А так все куда-то пристраивались и на какое-то время удовлетворялись этим. Потом обзаводились семьями, рожали, в заботах о потомстве умеряли амбиции. И начинали искать связи, чтобы пристроить детей.
Алла Константиновна помнила, что удивило их с Ленкой, когда та встретила уже обреченную Аню. Во-первых, новая квартира. Чистая комната на Петровке – это стильно. При условии, что вам не предстоит в ней родиться, вырасти, состариться и умереть. Конечно, мама Ани была инвалидом, трудилась на большом заводе и лет двадцать пять стояла в очереди на жилье. Сколько ни отодвигай человека, но до пенсии должны были осчастливить. И ведь свершилось тогда, когда дочь работницы заканчивала интернатуру. Совпадение? Или тот же «мелкий блат»? Если доктор наук лечил недужного директора крупного предприятия, то вполне мог намекнуть. Тогда начальник вызывал профорга, парторга и разражался монологом, вроде: «Что там у нас с Тимофеевой? Какая у нее группа инвалидности? Она грозится в ЦК жаловаться. Не доводите до неприятностей, впихните в сдающийся дом». Вариант, конечно, сомнительный и маловероятный, но чем черт не шутит.
Во-вторых, ведомственная больница. Если в получении жилья удача еще могла улыбнуться многолетнему нездоровому очереднику, то в адском деле распределения после окончания высшего учебного заведения она крепко сжимала губы и стискивала зубы. Тут божий подарок каменел в скорби по себе: в него никто не верил. Трудоустройством чада в ведомственное лечебное заведение бредили все родители студентов медицинских институтов. Премии, а то и тринадцатая зарплата. Льготные путевки в санатории, дома отдыха и детские лагеря. Длинный и богатый список распределяемого профсоюзами дефицита. Медикам перепадало не слишком много, но ощутимо больше, чем в городских учреждениях. Так что очутиться сразу после института даже в поликлинике без мощного блата Ане не удалось бы и чудом. Но чтобы таковой задействовать, уже недостаточно было быть просто опекаемой кафедрой выпускницей. А вот любовницей заведующего – пожалуй. Беременной любовницей – еще вернее. По срокам все совпадало. В семьдесят восьмом Аня Тимофеева поступила в институт. В восемьдесят пятом была интерном, потом еще год ординатором. В восемьдесят седьмом переехала в двухкомнатную квартиру (похоже, у ее матушки был нешуточный диагноз) и родила Леру.
Чувствительная дочь Ани и не слишком опытная, но явно талантливая кадровичка внимательно наблюдала за хозяйкой дома, в который так лихо ворвалась. Молодость уловила легчайшие колебания зрелости. И переиграла ее – изящно и быстро. Жесткая красивая тетка уже два часа откровенно прикидывала, что выгоднее для сохранения своего хорошего настроения – делиться информацией или утаивать. Наконец решила, что ее совести удобнее озвучить воспоминания. Так говори все, не дозируй слова по своему усмотрению! Явно ведь сидит и еще какими-то тайнами давится. Лера глубоко вдохнула, мысленно сосчитала до десяти и показала, что такое верх терпения. При этом ловко скрыла низ хитрости:
– Алла Константиновна, большое вам спасибо за все. Жаль, что не знаете, кто мой папа. Но я пила чай с маминой подругой. Вряд ли вы представляете, что это для меня значит. Я сильно вас задержала. Только если есть немного времени… Покажите мне институтские фотографии, будьте добры… Мамины пропали… А так интересно посмотреть на нее, на вас тогда…
Обрадовавшись, что не нужно больше мучительно соображать, в чем именно заключается ее долг перед Аней Тимофеевой, хозяйка принесла толстый допотопный альбом. Наверное, так и должен был пройти этот вечер, явись Лера интересоваться студенчеством умершей мамы. Они неторопливо листали картонные страницы, переговаривались. И когда дошли до выпускных фотографий, Алла Константиновна сама ткнула пальцем в два мужских лица. Одно было откровенно семитским – нос с горбинкой, короткие вьющиеся черные волосы, большие уши. Второе обдавало красотой, как солнечным жаром на юге, – пышная седая шевелюра, высокий лоб, четкая классическая лепнина бровей, носа, губ и очаровательная ямочка на квадратном, но не тяжелом подбородке. Разве что глаза были маловаты для совершенства. Лера любовалась и запоминала фамилии. А расслабившаяся Алла Константиновна болтала:
– Они оба перебрались с семьями в Израиль. Когда я была на усовершенствовании, мы интересовались, как наши преподаватели живут на исторической родине. Этот, – она показала на забавного брюнета, – Михаил Хананович, участвовал в Великой Отечественной, то есть Второй мировой. Ордена и медали в День Победы на груди не умещались. Сама понимаешь, как его обеспечили на исторической родине. Дом, отличная пенсия. И не благодаря наградам, там любому, к кому война прикоснулась, нищета не грозит. Человек даже не стал пытаться искать работу. А вот он, – наманикюренный ноготь бережно дотронулся до фотощеки красавца, – Григорий Самуилович, был моложе. Мы всякого наслушались об уехавших докторах наук. Но про него толком ничего известно не было, сплошные загадки. Одно точно: примерно через год после отъезда отсюда он издал в Израиле, Европе и Штатах какой-то свой новый учебник на английском. Поговаривали, что двинулся в Нью-Йорк и осел уже там. У него были очень талантливые дети, близнецы, мальчик и девочка. Учились со мной в одной школе класса на два-три впереди. Почему-то не стали заниматься медициной. Были перспективными то ли химиками, то ли физиками. Может, родители с ними в Америку махнули? В любом случае эти дети уже близки к пенсионному возрасту.
Только на этой фразе время милосердно восстановило связь с Аллой Константиновной. А то она уже не соображала, в какой поре своей жизни находится – то ли в институте учится, то ли с десятью годами врачебного стажа готовится категорию получать после усовершенствования, то ли в школе старшеклассников разглядывает. Оказалось, женщина напрасно пыталась лишать дочку Ани иллюзий. Боялась, вообразит невесть что, станет разыскивать якобы отца, получит от ворот поворот и утонет в отчаянии. А тут кого искать? Глубоких старцев с наследниками-пенсионерами? И где? В этом мире? Или они уже переселились в иной?
– Сколько же теперь лет самим господам докторам наук? – вслух спросила Алла Константиновна.
– Можно в Интернете посмотреть, – живо отозвалась Лера.
– А там про них есть сведения? Они же уехали из страны, – усомнилась хозяйка.
– Если что-то сделали в науке – конечно, – обескураженно, будто выслушала неандертальца, пояснила гостья. И не сдержалась, коротко прыснула: – Алла Константиновна! Двадцать первый век. Капиталистическая Россия. Столица ее, Москва. Отъезд куда угодно уже не является предательством Родины. В Сети всем доступна информация на любом языке. Хотите убедиться?
– Нет, я не настолько дремучая, просто вырвалось, – пробормотала часть истории.
И принесла ноутбук. Через минуту нашелся внушительный список научных трудов и биографии обоих профессоров. Заключительные строчки каждой были одинаковы: «С 1990 года живет в Израиле». И все. Но главным потрясением и для нее, и для Леры стали даты рождения. Один появился на свет в тысяча девятьсот двадцать третьем году, второй – в тысяча девятьсот тридцать девятом!
«Одному хорошо за девяносто, другому почти восемьдесят, – быстро сосчитала Алла Константиновна. – С ума сойти, какая ветошь. Если Лера не нацистка и желает быть дочерью заслуженного ученого, может выбрать в папы любого. И ведь нетрудно догадаться, которого выберет».
Ей вспомнился студенческий разговор. Ленка тогда усиленно отваживала Аню и показывала той, как нужно трепаться о мужчинах:
– На Григория Самуиловича существуют только две реакции – экстаз при виде или «мне, дебилке, все равно».
Удар был неприкрытым – Тимофеева не участвовала в обсуждении тех, с кем работала в институте, – преподавателей и декана. Она не прочь была родить от ученого доктора-еврея, но никогда вслух не рассматривала кандидатур.
– А если человек стесняется хвалить внешность профессора? Вряд ли сдержанность равнозначна дебилизму, – заступилась Алла.
– Унимать собственный восторг по поводу народного достояния, живого произведения искусства? Это уже признак конкретных эротических фантазий на его счет.
– Твой природный шедевр, твой идеал, мягко говоря, толстоват. Ботинки всегда стоптанные, костюмы мятые. И воротник в перхоти, – насмешливо сказала вдруг Аня. – Полнота и неряшливость, знаешь ли, могут отталкивать.
– Стиль, нездешний академический стиль, – попыталась отбиться Ленка, но было заметно, что она уязвлена.
Алла Константиновна усмехнулась и внимательно посмотрела на Леру. Девушка выглядела поникшей – она тоже неплохо считала в уме.
– Итак, получается, в год нашего поступления в институт Михаилу Ханановичу было чуть больше пятидесяти, а Григорию Самуиловичу – немного за сорок, – зачем-то продолжила упражняться в арифметике хозяйка. – Надо же, а я воспринимала их как дедушек.
– А сейчас им… Извините, но столько не живут… Они уже – руины некогда прекрасных замков. Мечта археолога. В лучшем случае. Или в худшем? – проявила здравомыслие гостья. – Хотите правду? Я была готова услышать историю про красивый роман с сокурсником, которому вредные алчные предки запретили жениться. Он побунтовал и сдался. А мама родила меня.
– Все это вполне могло быть. И с сокурсником, и с доктором, и с пациентом, когда твоя мама была интерном. Но мы с ней проходили интернатуру в разных клиниках. – Голос Аллы Константиновны вновь обрел твердость.
– Да, разумеется. Мы вернулись в исходную точку. Спасибо вам огромное еще раз за то, что уделили время. До свидания.
И Лера Тимофеева покинула дом так же стремительно, как ворвалась в него.
5Хозяйка даже удивилась – неужели одна? И задач, у которых что-то не то с условиями, вроде – два яблока плюс три литра, какова скорость ветра, – задавать больше некому? Умиротворение снизошло на нее мгновенно, будто и не было напряжения, головной боли, сомнений, не очень приятных воспоминаний. Лишь смутное недоумение чуть-чуть трогало, но не царапало. Клавдюша. Алла Константиновна представления не имела о том, что их короткая встреча в большой компании сохранилась в голове. Тот монстрик был росточком всего сантиметров на пять выше Ани. Он явно гордился правильным носом и крашеными длинными волосами, которые тщательно завил и, к ужасу расхристанных медичек, густо сбрызнул лаком.
А еще нарядился в алое платье и выкрасил губы ярко-красной помадой. Его зеленоватые глаза – злые, какие-то ненасытные в разглядывании исподтишка – пугали одинаковым, часами не меняющимся выражением. Он унижал Аню все резче, все заметнее для остальных. Та громко и, казалось, совершенно искренне хвалила чудовище, до которого никому дела не было, и оно на несколько минут успокаивалось, отдыхало, чтобы снова разойтись. Алла Константиновна недоумевала, зачем ей Клавдюша? Что она до сих пор делает в ее памяти? И много ли такого ненужного хлама там валяется? Но, как ни странно, вспомнив все, женщина убедилась в том, что ей это не нужно – не влияло на ее жизнь, не влияет и уже никогда не будет.
Чтобы состояние вдруг не изменилось, она торопливо убрала с глаз ноутбук и фотоальбом, вымыла посуду. Следы пребывания Елены Алексеевны и Леры исчезли. «И это пустое, как Клавдюша, – думала она. – Ленка будет решать свои проблемы без меня, у нас теперь мировоззрение разное. Я ничем не смогу ей помочь. У младшей Тимофеевой есть своя причина нервничать, грустить, беспокоить знакомых Ани. Но это чужая причина, не моя. Мне все равно, кто ее отец. Целый вечер моей единственной жизни ушел в песок небытия. Вроде и не жалко. Но как-то обидно. И похоже, я сейчас взбешусь на фоне своего тупого равнодушия».
Не успела. Хлопнула входная дверь.
– Ма-ам, ты дома? – нетерпеливо крикнул из прихожей сын. – Жарко, пить хочу!
Все на свете надежно встало на место. Это ему, двадцатисемилетнему мальчику, юному тощему волку, неустанно рыскающему в поисках смысла и счастья, предназначался компот. Он любил этот сладкий фруктовый отвар с детства. Не признавал ни соков, ни колы.
– Я здесь, Витенька, – отозвалась Алла Константиновна. – Папа ждет нас на даче, грозился курицу запечь. Уехал еще днем…
– Ага, значит, он на машине, а мы на электричке. Нечестно, – засмеялся сын, входя в комнату. Чмокнул мать в щеку, заглянул в глаза: – У тебя все в порядке?
– Да. Устала немного. Переобщалась. И не завидуй отцу. Неизвестно еще, кому хуже. Нам с тобой десять минут до платформы и двадцать пять в поезде. А ему часа два в пробках стоять. Он бы с удовольствием составил нам компанию. Но не тащить же гамак, одеяла и новые кастрюли на себе, – урезонила мать, которая считала, что и умеющему читать не лишне повторять алфавит. – Пей свой компот, сегодня абрикосовый. Я переоденусь, и двинемся наконец.
– Абрикосовый? Здорово. Спасибо, мам.
Их отношения не были идеальными – поссориться, и довольно шумно, могли когда угодно, из-за любой ерунды. Но Алле Константиновне почудилось, будто только такой мирный родственный диалог и возможен между ними. В конце концов, Виктор точно не перепутает неспособность любить жену и ребенка с верой в Бога и знает собственного отца. И она, мать, немало усилий приложила, чтобы было так, а не иначе.
Женщина улыбнулась и пошла в спальню надевать джинсы. У нее не было ни своих, ни чужих причин жаловаться на судьбу.
Глава 2
1Август упорствовал в том, чтобы запомниться всем, кто в нем жил, прохладным и дождливым. Прогноз на оставшиеся десять дней лета не вдохновлял. «Только бы нормально, без задержки рейса вылететь в Нью-Йорк, – заклинала погоду Лера Тимофеева. – А то не явимся вовремя, не застанем хозяина квартиры и останемся на улице. Ищи потом недорогую гостиницу в туристический сезон. Ребята меня проклянут».
Да, еще спускаясь по лестнице в чистенькой, умеренно обшарпанной многоэтажке Аллы Константиновны, она понимала, что завтра же начнет хлопотать об американской визе. Или послезавтра: суток на то, чтобы выяснить, не умер ли красавец Григорий Самуилович, должно было хватить. Друзья по всему миру, зависшие в социальных сетях, были готовы выяснить про пожилого обитателя Нью-Йорка что угодно. Интересоваться перешагнувшим девятый десяток, не очень симпатичным Михаилом Ханановичем и тащиться ради него в Израиль Лере не хотелось. Девушка оставила ветерана войны на крайний случай.
Она, как миллионы людей до нее, самостоятельно вывела правило освобождения: нуждаешься в том, чтобы человек о тебе забыл, – убеди его, будто он добился от тебя, чего хотел. Уверяла Алла Константиновна, что ни один из ученых докторов не мог быть ее папой? Лера и продемонстрировала ей разочарование древним возрастом обоих. А на самом деле мысленно похвалила себя за настойчивость. Да пышно так: «У меня есть дар предвидения. Никогда не подводила интуиция, мое главное достояние и достоинство. Вот я решила, что пора искать отца. Недоумевала еще, почему именно сейчас, когда полно работы. Заставляла себя откладывать, но что-то жгло изнутри, подгоняло. Оказывается, все было правильно и вовремя. Отныне буду прислушиваться только к себе. Никому не позволю сбить себя с толку советами и нравоучениями. В конце концов, кому нужна здоровая, преуспевающая, счастливая Лера Тимофеева больше, чем самой Лере Тимофеевой? То-то». Она, если честно, думать не думала о кровных узах с господином под восемьдесят. Но этот вариант отныне не исключался и заставлял торопиться.
Сокурсница мамы произвела на девушку впечатление удручающее. Баба так ценила свой неповторимый внутренний мир, что еще в молодости принялась защищать его жесткими конструкциями цинизма. Откроет тайную крышечку, проветрит то, что называется душой, вдохнет аромат, полюбуется сиянием, вновь закроет. И навалит сверху всяких ржавых железяк для маскировки. Ей задали прямой вопрос. И еще упростили задачу, мол, сплетни, слухи, намеки, догадки – все устроит, только помогите. А она? Начала отвлекать внимание, тянуть резину, чтобы слазить в себя и упиться чем-то личным. Вспомнила некое сделанное ей добро, решила запоздало его отработать и поделилась Аниной юной мечтой о беременности от еврея-профессора. А если бы не вспомнила? Так и оставила бы себе желания и чувства мамы, которые по праву наследования принадлежали Лере? Хорошо, что младшая Тимофеева на работе поднаторела в незаметном тестировании всякого рода соискателей. Что проводить тренинги сотрудников с высшим образованием и немереными амбициями было ее профессией. Иначе пришлось бы уходить от этой Аллы Константиновны ни с чем.
Сиротство обрушилось на девочку накануне восьмилетия и пробило в ней дыру, в которую утекло абсолютно все. И пару лет, пока зарастало дно сквозной раны, в ней не удерживалась даже боль. Пыталась цепляться острыми когтями за стенки, терзала, но неизбежно вываливалась. Наверное, это и спасло. Но с тех пор Лера ненавидела усилия, не приносящие результата. И людей, которые не заполняли ее жизнь хоть каким-нибудь смыслом. Она знала, как страшно в бесчувственной пустоте, где есть только ты, ненужная самой себе.
Лера не кривила душой, говоря Алле Константиновне, что относится к смерти как к избавлению от запредельных мук. Она запомнила маму сильно располневшей после химиотерапии, какой-то желтой, ужасающе некрасивой, с полубезумными глазами, в которых медленно тускнела надежда. Изредка Аня горячечно твердила дочке, что скоро поправится, что они будут жить весело и долго. А потом стала говорить только про себя – поправлюсь и буду жить. Лера старалась, ухаживала за ней, как могла. Даже яичницу научилась жарить, храбро выхватывая из кипящего масла падающие в него осколки скорлупы. И полы мыла на совесть – доставала тряпкой каждый уголок, потому что мама как-то простонала: «Эта грязь дома меня убьет». Но болезнь оказалась сильнее наводимой ребенком чистоты. За неделю до конца Аня Тимофеева упросила пожить с ними двоюродную сестру. При ней и умерла. Вернувшейся из школы Лере тетка мрачно сказала: «Отмаялась бедная. Упокой, Господи, душу рабы Твоей Анны. Если и была в чем грешна, все страданием искупила. Избавь нас от такого заболевания, Господи, это же невозможно вынести».