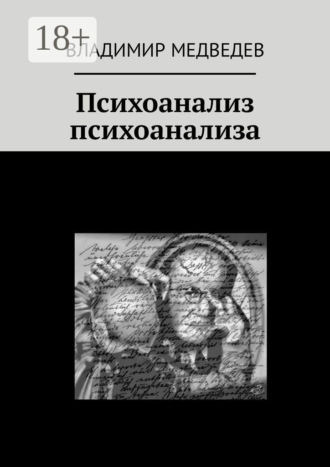
Полная версия
Психоанализ психоанализа
Но давайте перейдем к психоаналитической мифологии. Какие же мифы, а порою даже и сказки, психоаналитики первой волны подводили в качестве инфантильно-регрессивного фундамента под свою деятельность? Прежде всего – это мифы, связанные с ситуацией родителеубийства, так называемая «ЭДИПАЛЬНАЯ МИФОЛОГИЯ».
Эдипальная мифология, при всей ее драматичной запредельности человеческому опыту – убийство отца, женитьба на матери, и т.п., прочно вошла в современную нам культуру и по традиции воспринимается как маркер, отличительная черта, психоанализа. Можно даже сказать, что на мифе об Эдипе покоится, как на фундаменте, весь так называемый «поддерживающий» миф психоанализа.
Ничего не зная о психоанализе, любой прохожий нам пояснит, что согласно психоаналитической концепции каждый из нас, скажем – в мужском варианте, бессознательно желая переспать со своей матерью и убить своего отца, от этого и мучается, потому что в реальности он, мол, это сделать не может, и вот эти не реализованные желания в качестве «Эдипова комплекса» и будят в нас различного рода сновидения, поведенческие странности, симптомы и так далее…
И мало, кто догадывается, что все эти «эдипальные страсти» бушуют только в пространстве «поддерживающего мифа», обслуживающего манифестацию психоанализа, его предъявление «граду и миру», но ни коим образом не описывают собственной природы психоанализа как концепции и как процедуры. А если и описывает, то только в символике «эдипальной слепоты», а не «эдипального убийства» или «эдипального инцеста».
Когда мы смотрим на психоанализ изнутри, анализируем его в режиме самоотношения, нам становится очевидным, что эдипальная мифология есть сугубо внешнее и постороннее ему образование, вырванное из контекста античной культуры и приспособленное для решения сугубо оперативных задач (в данном случае – задач провоцирования своего рода «ложного сопротивления», отвлекающего от действительно травматических вещей, «тихой сапой» протаскиваемых психоанализом в мир осознавания и аффективного переживания).
Это все тем более странно, что драма «эдипальных желаний» не вписывается даже в элементарную психоаналитическую пропедевтику; ее невозможно согласовать с концепцией инфантильной сексуальности и основанной на ней «хронологией» психосексуального развития. Не ожидали такого от меня услышать? Давайте тогда рассуждать вместе…
Вот у нас драма (а возможно и трагедия) рождения, вот – реваншизм оральной фазы; вот – рождение Я в горниле анальных переживаний; вот – уретрально-фаллический (кастрационный) переход к генитальной фазе; и так далее – через латентную фазу развития на просторы пубертата…
Ну и куда мы тут привяжем все эти «эдипальные страсти»? Как-то не вписывается никуда у нас этот эдипальный миф. Более того, когда его начинают традиционно фиксировать на переходе от фаллической стадии к генитальной переорганизации психики, вдруг обнаруживается, что при такой фиксации теряется весь исходный материал, что эдипальные переживания, то есть переживания амбивалентности идентификации с отцом и матерью «работают» и на оральной стадии и на анальной. Почему мы их должны куда-то засовывать в непонятное для нас место? Оно становится понятным, если мы ответим с вами на, все-таки, главный вопрос, пока в качестве некой версии.
Вот она – эта версия. Послушайте и не стремитесь сразу ее подвергнуть тотальному отрицанию. Она неприятна – и на вкус, и по послевкусию; но таков уж наш сегодняшний разговор: в нем мало будет приятного. Я предупреждал: тащить себя за волосы из болота не только сложно, но и больно…
Давайте присмотримся к Эдипу, ставшему своего рода «маркером» психоанализа, неотъемлемой частью нашего корпоративного имиджа. Присмотримся и увидим, что изображен он всегда не один, а рядом… Рядом с кем: с убитым и отцом? с супругой и по совместительству – матерью? с заботливой дочерью-сестрой Антигоной? с дельфийским оракулом? Нет – всегда рядом со Сфинкс, древней праматеринской Богиней. Богиней, которая живет на краю пропасти, олицетворяющей бездну глубин нашей психики, и которая выступает одновременно в двух обличиях: Матери, очаровывающей нас своей животворящей грудью, и Зверюги-из-бездны, обрекающего на смерть любого, кто покусится на ее безусловную власть над людьми (по принципу: я вас всех породила, я вас всех и убью!).
Общение со Сфинкс – это и есть наша с вами жизнь, выраженная в образах мифа. И в этой жизни, как у каждого, кто подходит к краю пропасти и общается там со Сфинкс, есть только два варианта: умереть сразу, или же получить отсрочку и искупительно помучиться.
Про «умереть» – понятно; человек, вошедший в прямой конфликт с «миром Матерей», с первичной архаикой БСЗ, вообще – не жилец. Фрейду ли, т.е. человеку с обостренным материнским комплексом, этого ли не знать: он ведь в итоге сам прыгнул в эту пропасть. Отсюда его разговоры о «ключе от Царства Матерей», подобранном им при анализе случая Анны О. и примененном для надежного запирания дверей в это Царство; отсюда и жесткость его позиции по отношению к самому близкому ученику – Отто Ранку, осмелившемуся предать гласности главную тайну психоанализа, рассказать всем о том, что они обсуждали с Фрейдом только наедине во время их ежедневных прогулок, т.е. о том, что в основе всех человеческих страданий лежит травматизм рождения/смерти.
А вот про «помучиться» – тут нужны пояснения. Сфинкс отступает, на время прячась в бездну, если ты сумеешь разгадать ее загадку. Если ты сможешь понять смысл ее послания к тебе (причем послания адресного, персонального; так хромому Эдипу, опирающемуся на посох, была предложена загадка о человеке как хромце, вошедшем в жизнь как зону влечения к смерти), и сделать это послание смыслом своего мучительного, но все же существования.
Получается, что оба варианта, которые дает нам на выбор древний миф, не радуют нас своей перспективой. Буквально как у незабвенного «товарища Сухова»: ты как – сразу хочешь умереть или предпочитаешь помучиться? А нет ли тут какой-нибудь «другой альтернативы»? Опыт того же красноармейца Сухова говорит – да, есть; нужно только изловчиться и вывернуть ситуацию наизнанку, смещая импульс аутоагрессии по цели и транслируя его на Другого.
Вот теперь мы и вступаем в пространство реального, а не манифестного, содержания психоаналитического мифа.
В этом мифе психоаналитик (изначально – Зигмунд Фрейд, а вслед за ним и мы – его последователи) вклинивается между Эдипом и Сфинкс, играя одновременно обе эти роли. Он задает вопросы и отвечает на них, мучает и мучается сам, падает в пропасть регрессии и удерживается от такого падения. И это все в режиме самопознания, расчленения (анализа) себя на сновидца (или же, как вариант, невротика), соприкоснувшегося с БСЗ и получившего персональное послание (загадку), и аналитика, стремящегося это послание истолковать. Истолковать и тем самым обрести свой собственный путь к смерти (к пропасти); порою предельно мучительный, как у того же Фрейда, но все же свой.
Тут мы в очередной раз удивляемся мудрости Фридриха Ницше, заявившего что «познавший себя есть собственный палач». Но не лучше ли быть именно «собственным» палачом, чем отдаваться на волю палача «чужого», убивающего нас непонятно за что и непонятно – где, когда и как?
Но это все работает в режиме самоанализа, отыгрываемого в разбираемом нами мифе в сцене обращения Эдипа к оракулу в Дельфийском храме, над фронтоном которого как раз и было начертано: «Познай самого себя!».
В более же «мягком» варианте отыгрывания мифа об Эдипе, т.е. как раз там, где мы играем в свои профессиональные игры вокруг Кушетки, все выглядит менее зловеще, а местами даже почти привлекательно. Получается, что даже в таком жутком мифе можно неплохо устроиться (если знать – как в нем все устроено и какие есть роли для игры). В клинической практике психоаналитик играет роль пифии – пророчицы Дельфийского храма. Он угадывает (а порою и реально слышит) послание – волю БСЗ, приносимое пациентом, изнемогающим от тяжести этого чужеродного волевого импульса. Он переводит это послание на язык обыденных человеческих смыслов и привязывает эти новообретенные смыслы к жизни и судьбе доверившегося ему человека. Одновременно мучая его, т.е. создавая зону «искупительной жертвенности», выигрывая время для перестройки всей психики пациента в соответствии с полученным им посланием Сфинкс. Которое, если убрать подробности, всегда звучит следующим образом: «Я не убью тебя сразу, если ты станешь другим!».
Итак, мы опять вышли на тему мучений пациента как фона психоаналитической процедуры. Я редко в своих лекциях ссылаюсь на конкретные высказывания отца-основателя, но здесь, чувствую, без его поддержки мне не обойтись. И я приготовил для вас своего рода «опорную цитату». В своем докладе «Пути психоаналитической терапии», прочитанном на 5-ом психоаналитическом конгрессе в Будапеште (1918 г.) Фрейд, обозначая свой переход от «психоанализа сопротивления» к «психоанализу травмы», сказал буквально следующее: «…Мы должны заботиться о том, чтобы страдание больного в какой-либо действенной степени не закончилось преждевременно. Если оно было ослаблено разложением и обесцениванием симптомов, то мы должны каким-то образом его возобновить…». Вот так и сказал, как отрезал…
Т.е. эдипальный миф – это миф об искупительном страдании, в котором психоаналитическая позиция прописана в жанре высокой античной героической трагедии. Герой психоаналитического мифа – Эдип – получает согласованное с его детскими травмами и перспективное для целевой трансформации истолкование его психического состояния и связанных с ним родителеубийственных фантазий. Вооруженный этой интерпретацией он движется навстречу Сфинкс, соприкосновение с которой становится своего рода «моментом истины»: либо он проваливается в глубины регрессии, лишаясь ресурсов своего Я; либо – продолжает свой жизненный путь. Мучительный, наполненный страданием, но свой.
Решается это именно в анализе, где все изначально обустроено для этой встречи с БСЗ, для этого нуминозного опыта. И аналитик, подобно храмовой прорицательнице, может лишь вооружить героя этого таинства неким подлежащим пониманию и деятельной реализации пророчеством. А что делать с этим пророчеством и как его понимать – это выбор самого пациента. Как говорил Зигмунд Фрейд: понимание аналитика и понимание пациента суть вещи принципиально различные; их совпадение сделало бы психоанализ бессмысленным и не нужным.
Ну вот, пожалуй, и все, что я могу рассказать вам сегодня о нашем опорном психоаналитическом мифе. В нем сконцентрирована такая бездна смыслов и возможностей, такая гремучая смесь ужаса и надежды, что вам, начинающим свой психоаналитический путь, а зачастую – просто стоящим еще у порога психоанализа, сказанного мною уже более чем достаточно.
Достаточно, чтобы ощутить дух психоанализа как древнего таинства, возрожденного Фрейдом на материале античного мифа.
Раз уж я упоминал кроме мифа и сказку, т.е. привязку к символике культуры детства, то скажу пару слов и об этом. В типологии сказочной культуры есть сюжет, который описывает психоаналитическую ситуацию в абсолютно точном ее выражении. Это сказка о спящей царевне; в русской литературной традиции это – «Руслан и Людмила», в европейской – «Спящая красавица».
Тут все выписано очень точно. «Красавица» должна спать, лежа на Кушетке (на символическом языке сказки Кушетка, кстати говоря, уподобляется «прозрачному гробу»). Она должна спать и видеть сны, должна рассказывать о своих сновидениях, а герой, прекрасный принц, должен бдеть над нею и соответствующим образом размышлять о том, что же привело, в конце концов, ее к этому страшному и тяжелому состоянию. Будить ее он не должен (хотя хочет этого больше всего на свете). Ведь проснувшись, она выпадет из этой «аналитической ситуации», превратится в чужого и постореннего человека, с которым эти интимности станут недопустимыми.
Вот такая вечная зацикленность на печали, обоюдно связанной с тем, что объект желания недоступен в силу того, что он находится в иной реальности, в реальности сновидения, в реальности фантазии и игры.
Разговор о сказке позволяет нам плавно перейти к следующей теме и поискать привязки «психоаналитичности» (и фрейдовской, и каждого из нас) к инфантильным травмам и фиксациям.
Но прежде чем сделать это, давайте зафиксируем наши нынешние достижения. Что мы уже имеем? Мы имеем кровать («Кушетку») как базовый символический атрибут профессионального ритуала и набор игровых сценариев, вокруг нее воспроизводимых. В основе этих ритуальных действий, в совокупности формирующих психоаналитический сеттинг (т.е. общие правила профессиональной игры), лежит трансляция вовне, на фигуру пациента, потока Танатоса, т.е. аутоагрессии самого психоаналитика. И все это покрывается, как своего рода базовой метафорой происходящего, знаменитым «мифом об Эдипе», отыгрываемом, как и положено, в жанре античной трагедии, т.е. искусственно организуемого предсмертного страдания его героев.
Фиксируемся в этом понимании и идем дальше.
3. Базовая инфантильная фиксация психоанализа
Теперь, зафиксировав смысловой и эмоциональных заряд, заложенный в символической атрибутике и ритуалистике психоанализа, а также – окунувшись в атмосферу базового психоаналитического мифа, мы можем приступить к главной задаче: психоанализу психоанализа как стандартной процедуре.
И, соответственно, попытаться ответить на вопрос – к какому периоду нашего инфантильного опыта, к какой точке интервала психосексуального развития, подключен психоанализ, понимаемый и как личностная установка, и как профессиональная деятельность?
Психоанализ, как и любая иная устойчивая форма регрессивного состояния, отыгрываемая в опять же устойчиво воспроизводимых (навязчивых) ритуалах, должен иметь свою «инфантильную прописку». Т.е. должен быть привязан к определенной травматической фиксации, к ее желаниям, фобиям, травмам и сценарным защитам.
Травматическая фиксация, напоминаю, завершает конкретный маршрут инфантильного развития (индивидуации), обозначает своего рода финишную черту, дальше которой мы так и не продвинулись, довольствуясь достигнутым и выстраивая из этого достигнутого свое личностное своеобразие.
Развитие как таковое предполагает наличие жестких стимулов, поскольку, как сейчас модно говорить, представляет собой «покидание зоны комфорта», выход за пределы телесно и психически освоенных переживаний в зону травмы, т.е. в зону чего-то нового, небывалого, не имеющего сценарных аналогов и потому порождающего страх. Естественно для человека (и ребенка, и взрослого) как раз регрессировать или фиксироваться на своих актуальных психических достижениях; развитие всегда стимулируется извне, носит вынужденный характер. Стимулы эти, учил нас Фрейд, в нашем детстве идут из двух источников: из наследуемых схем развития (филогенетических прафантазий) и из наличной системы воспитания ребенка, его семейной и социальной среды обитания.
Фиксация предполагает, что некий травматический стимул, который по логике развития должен был подвигнуть нас на изменения и переход на новую стадию развития, оказывается настолько страшным и невыносимым, умудряется настолько радикально пробудить вроде бы пережитый уже травматизм более ранних стадий (то есть сформировать т.н. «инфантильный невроз»), что приводит к тотальному вытеснению всего массива инфантильного опыта. Подобного рода остановка в развитии всегда маркируется страхом и виной, становящимися обоснованием этой остановки и ложащимися в основание последующего формирования личностного психотипа (характера) и типа объектных отношений (включая, кроме всего прочего, и выбор профессии).
Все – ты здесь остановился; ты здесь решал некие проблемы, не смог их решить и зафиксировался в этой позиции. Теперь ты всю оставшуюся жизнь будешь эти проблемы решать, это «недоделанные дела» своего детства навязчиво доделывать.
Аффекты и желания, производные от этой фиксации, ты будешь либо проявлять, либо – подавлять, либо – трансформировать или сублимировать; но свободным от них ты уже не будешь никогда.
И единственная форма свободы в ситуации подобного рода неосознаваемой сверхдетерминации – пройти психоанализ и выяснить конкретику своей «зафиксированности». От ее власти при этом мы все равно не избавляемся, ведь кукла-марионетка не может двигаться самостоятельно: Фрейд жестко и безапелляционно объявил нам, что все, связанное в нашей психики с Я, с сознанием, и пр. суть вторичные образования, посредством которых проявляется воля БСЗ. Но поняв, куда привязаны нити, за которые нас дергает этот невидимый кукловод, мы можем получить своего рода «бонус», а именно – понимание своих возможностей и своих ограничений. На базе которого можно определить для себя пространство деятельности, где наши особенности, производные от такой вот фиксации, востребованы и выигрышны в плане эффективности решения профессиональных задач.
Вспомнив еще одну фрейдовскую метафору, можно добавить, что понимание своей базовой инфантильной фиксации позволяет нам, несущимся верхом на бешеном коне БСЗ, в общих чертах понять – куда именно он несется, а также – планировать свою жизнь с учетом этого понимания. Мол, а нам туда и было надо!.. Идеальный вариант «свободы воли», ничего другого для нас тут и не предусмотрено. Идеальный, кстати, еще и потому, что только в данном случае нам гарантированы телесное здоровье, психическое равновесие и профессиональная эффективность в одном флаконе.
Мы с вами вообще привязаны к телу социума исключительно через собственное тело, поскольку только здесь расположен ресурс универсального воздействия на индивидов, в прочих отношениях совершенно уникальных, ресурс объединения их в теле массы.
Цивилизация собирает нас в массу, создает из отдельных индивидов социум, подключаясь к каждому из нас посредством символики универсальных младенческо-инфантильных травм, запечатленных в памяти нашего тела.
Но набор таких судьбоносных травм не так уж и велик, для их перечисления достаточно пальцев одной руки. Да и не все они годятся для организации коллективной психодинамики современных людей.
Вот как, к примеру, можно построить цивилизацию, основанную на травме «орального отказа»? Перенесенная в сферу массовой психики и способов ее регулирования эта травма может быть развернута исключительно в виде страны-концлагеря, основанной на принципе регулирования допуска человека к пище как таковой.
Те коллеги-психологи, в том числе и психоаналитики, которые после второй мировой войны описали глубинно-психологическое основание организации концлагерей, показали, что да, в принципе это возможно. Массообразование, то есть универсальная и устойчивая инфантилизация людей, выстраивается предъявлением им требований родительского сверхконтроля: строится, пересчитываться, мыться, оправляться, и так далее. Плюс жесткое нормирование периодичности принятия пиши и ее количества. И все – искомая регрессия запущена, человек подавляет свою индивидуальность, почти без остатка растворяясь в легко управляемой массе. Даже проблема собственной жизни и смерти отходит при этом на второй план. Что позволяет формировать в среде подобного рода воздействия качества, совершенно не свойственные современному нарциссически ориентированному человеку. Например – устойчивую мотивацию жертвенного служения Матери-Родине (самопожертвования) в армейских ритуалах.
Попробуем теперь зайти с другого конца «спектра инфантильных травм», а именно – с подключения людей к массе через динамику формирования их инфантильной генитальной организации. Тут тоже нет ничего особо сложного. Прежде всего потому, что телесное отреагирование полового влечения может быть без особого труда сублимировано, в отличии от питания, скажем, или от уринирования или дефекации. Эта сублимация не является разрушительной для организма и, соответственно, либидо как энергия сексуального желания, весьма пластично трансформируется и смещается по цели, загружаясь, катектируясь, на практически любые объекты, подсовываемые социокультурной средой. Поэтому мы с вами так часто повторяли формулу, гласящую, что вся социальная организация – это набор девиаций. То есть это некое комплексное и системное сексуальное извращение, когда изначально простое, естественное эротическое желание при помощи специальных процедур и символических медиаторов смещается по цели и переводится в режим социального чувства.
Но мы немного отвлеклись от нашей темы. Итак, какая же базовая инфантильная фиксация лежит в основании психоаналитичности как уникального психотипа и психоанализа как не менее уникальной формы ее ритуализированной социализации и профессионализации?
Для экономии времени в данном случае я не буду подводить вас к инсайту, а просто сразу озвучу свой вариант ответп на данный вопрос.
А уже после этого постараюсь его обосновать.
Тут ведь всегда есть две линии рассуждений. Можно дробить анализируемое на отдельные признаки и спрашивать себя: если нечто выглядит как утка, квакает как утка, и т.д., то может быть это утка и есть? А можно просто взять эту утку и, анализируя свое к ней отношение, спросить: а с нашего ли птичьего двора эта птица? И я предлагаю нам с вами пойти этим – вторым – путем.
Пойти, отталкиваясь от следующего моего заявления: изначально, в своем фрейдовском первоистоке, классический психоанализ возник и закрепился в качестве рациональной и деятельной компенсации травматизма фаллического порога генитальной стадии развития.
Весь он, со всеми его объяснительными концепциями и метапсихологическими спекуляциями, метафорами и иллюстративными представлениями, символами и мифами, деятельными реакциями и ритуальными процедурами, телесными диспозициями и правилами коммуникации, прописан по единому регрессивному адресу – в пространстве уретрально-кастрационных переживаний фаллической фиксации.
Именно тут – на выходе из «позднего анала», где на ребенка обрушиваются кастрационные переживания, коренятся истоки и тайны всех странностей нашей «психоаналитичности», превращенных в профессию. Там мы имеем свою «корпоративную травматическую фиксацию» как базовый компонент «корпоративного Эго», там постоянно ищем и находим искомое подключение к инфантильным ресурсам психзащит и реактивных сценариев. Там мы дома, там нам не страшно (что странно, для всех остальных это зона тотального ужаса, но вот такие мы особенные!), там мы постоянно пребываем, затаившись за изголовьями своих Кушеток, там мы заряжаемся мотивацией для своих игр, там мы черпаем веру в свои парадоксальные для иных людей принципы и постулаты, оживляем их этой верой и превращаем в психоаналитический миф.
А вот теперь давайте обо всем этом поговорим поподробнее и решим – про нас ли это заявление, узнаем ли мы себя в подобного рода регрессивной личностной модели и привязанных к ней компенсаторных и сублимационных формах персональной и групповой активности (в качестве которой я и пытаюсь сегодня рассмотреть наш родной психоанализ).
Начну немного издалека, от нашей «печки», т.е. от самого Фрейда, от его собственного «фаллосоцентризма», который поначалу «вслепую» вел его по жизни, как куклу-марионетку, а потом, по мере углубления фрейдовского самоанализа, стал поводом для тщательной проработки фаллической фиксации, а в итоге превратился в то, что и было названо «психоанализом».
Прежде всего давайте вспомним о том, Фрейд, все-таки, был человеком, который не просто отыгрывал в профессии свои глубинные проблемы и комплексы в режиме сублимации; он исследовал свою психику и психику своих пациентов, тем самым укрощая свою неизбежную поначалу психоаналитическую «дикость». Подобного же рода исследования он проводил и в своих книгах, т.е. в гораздо более безопасном (для всех участниках психоаналитической коммуникации) режиме защитного отстранения, находил возможности для изучения и описания собственной инфантильной фиксации при написании текстов, где анализировал людей, в чем-то подобных, как ему казалось, ему самому (в интервале от Леонардо да Винчи до Вудро Вильсона, от «Маленького Ганса» до судьи Шребера). Порою он в качестве проективных объектов для такого самоанализа избирал целые народы; и, конечно же, не мог обойти вниманием свой собственный, еврейский народ.
Последний описывался (диагностировался) Фрейдом как больной этнос, одержимый чувством вины и навязчивой аутоагрессией, который он решил вылечить психоаналитическими методами, уверяя, что они вполне применимы и для «терапии культурных сообществ». Он описал свой родной народ как коллективного фиксанта как раз именно на фаллической стадии, который в генезе своей глубинной ментальности остановился на неудачной попытке индентификации со своим культурным отцом (в качестве которого Фрейд анализировал мифологический образ Моисея). Неудача подобного рода идентификации и соответствующая фиксация породили и специфику истории народа, и особенности его массовых проявлений его глубинной психодинамики (фобий, навязчивостей, неосознаваемой вины и искупительной жертвенности), в той или иной степени проявляющихся и у отдельных ее носителей.

