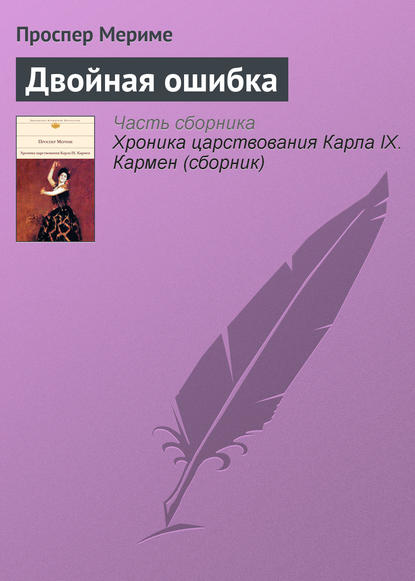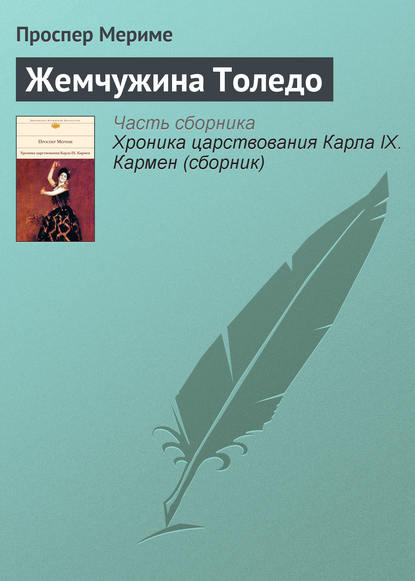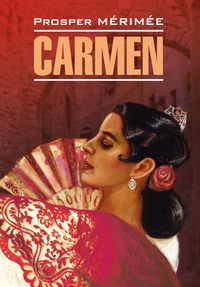Полная версия
Коломба

Проспер Мериме
Коломба
Ре far la to vendetta,
Sta sigur, vasta anche ella.
Vocero[1] из НьолоГлава 1
В первых числах октября 181* года полковник сэр Томас Невиль, ирландец, один из заслуженных офицеров английской армии, остановился в гостинице Бово в Марселе, на обратном пути из путешествия по Италии. Вечное восхищение энтузиастов-путешественников произвело реакцию, и, чтобы отличиться чем-нибудь, многие из нынешних туристов берут себе девизом горациевское nil admirari[2]. Единственная дочь полковника, мисс Лидия, принадлежала именно к этому разряду ничем не довольных путешественников. Преображение Рафаэля показалось ей посредственным произведением, Везувий во время извержения – немногим лучше, чем трубы бирмингемских фабрик. Вообще она обвиняла Италию в отсутствии местного колорита, в отсутствии характера. Пусть, кто может, объяснит мне смысл этих слов; несколько лет тому назад я прекрасно понимал его, а теперь совсем не понимаю. Сначала мисс Лидия льстила себя надеждою увидеть по ту сторону Альп что-нибудь такое, чего до нее никто не видел и о чем она могла бы говорить с порядочными людьми. Но скоро, видя, что соотечественники везде предупредили ее, и отчаявшись встретить что-нибудь неизвестное, она бросилась на сторону оппозиции. В самом деле, неприятно говорить о чудесах Италии для того, чтобы вдруг услышать от кого-нибудь: «Вы, конечно, знаете такого-то Рафаэля в таком-то палаццо, там-то? Это прекраснейшая вещь во всей Италии». И, наверно, ее-то вы и забыли посмотреть. Так как видеть все было бы слишком долго, то проще бранить все с предвзятым намерением.
В гостинице Бово мисс Лидии пришлось испытать горькое разочарование. Она привезла с собой хорошенький эскиз пелазгических или циклопических ворот в Сеньи; она думала, что рисовальщики забыли эти ворота. И вдруг леди Френсис Фенвик, с которою она встретилась в Марселе, показывает ей свой альбом, и в этом альбоме, между сонетом и засушенным цветком, ворота в Сеньи, густо покрытые тердесьеном! Мисс Лидия отдала свои ворота горничной и потеряла всякое уважение к пелазгическим сооружениям.
Такое печальное настроение сообщилось и полковнику Невилю, который со смерти своей жены смотрел на все не иначе как глазами мисс Лидии. Италия надоела его дочери: ясно, что это самая скучная страна в мире. Правда, он не мог сказать ничего против картин и статуй, но зато мог заверить, что охота в этой стране самая жалкая и что из-за того, чтобы убить несколько штук несчастных красных куропаток, нужно сделать десять миль в самую жару по римской Кампанье.
На другой день после приезда в Марсель он пригласил обедать капитана Эллиса, своего бывшего адъютанта, который только что провел шесть недель на Корсике. Капитан прекрасно рассказал мисс Лидии историю о бандитах; достоинство ее состояло в том, что она нисколько не походила на истории о ворах, которых она наслушалась по дороге от Рима до Неаполя. За десертом, когда мужчины остались одни с бутылками бордо, они разговорились об охоте, и полковник узнал, что нигде нет такой прекрасной, такой разнообразной и такой богатой охоты, как на Корсике.
– Там множество диких кабанов, – говорил капитан Эллис, – нужно только научиться отличать их от домашних свиней, на которых они удивительно похожи, иначе будут неприятности с их пастухами. Они появляются из лесков, так называемых маки, вооруженные с ног до головы, заставляют платить за своих животных и насмехаются над вами. Есть там еще муфлоны, престранные животные, которых нет нигде в других местах, но охота за ними трудна; есть олени, лани, фазаны, куропатки; да и не перечтешь всех родов дичи, кишащей на Корсике. Если вы любите пострелять, поезжайте на Корсику, полковник: там, как говорил один из моих хозяев, вы найдете всевозможную дичь, начиная от дрозда и кончая человеком.
За чаем капитан снова очаровал мисс Лидию рассказом о косвенной вендетте[3], еще более оригинальным, чем предыдущий, и привел ее в окончательный восторг от Корсики, описав ей дикий вид страны, оригинальный характер ее жителей, их гостеприимство и первобытные нравы. Наконец он преподнес ей хорошенький маленький стилет, знаменитый не столько своею формой и медной оправой, сколько происхождением. Один прославленный бандит уступил его капитану Эллису, ручаясь за то, что он побывал в четырех человеческих телах. Мисс Лидия заткнула его за пояс, потом положила на свой ночной столик и, прежде чем заснуть, два раза вынула из ножен. А полковник видел во сне, как он убивал муфлона и как владелец заставлял его заплатить, на что полковник охотно согласился, ибо муфлон был прелюбопытное животное и походил на дикого кабана с оленьими рогами и фазаньим хвостом.
– Эллис рассказывает, что на Корсике прекрасная охота, – сказал полковник, завтракая вдвоем с дочерью, – если б это не было так далеко, недурно бы съездить туда недельки на две.
– В самом деле, – ответила мисс Лидия, – отчего бы нам не поехать на Корсику? Вы будете охотиться, а я рисовать; я буду в восторге, если в моем альбоме будет та пещера, о которой рассказывал капитан Эллис и куда ребенком приходил учиться Бонапарте.
Может быть, в первый раз желание, выраженное полковником, получило одобрение его дочери. Радуясь такому неожиданному обстоятельству, он, однако, догадался сделать несколько замечаний, чтобы еще пуще раззадорить мисс Лидию. Напрасно он говорил о дикости страны, о том, как трудно женщине путешествовать по ней: она ничего не боялась, она любила путешествовать верхом больше всего на свете, она считала для себя праздником спать под открытым небом, она грозила отправиться в Малую Азию. Словом, у нее был готов ответ на все. Ни одна англичанка не была на Корсике; значит, ей нужно съездить туда. И какое счастье будет, возвратившись на Сент-Джемс-Плейс, показывать свой альбом! «Отчего же, милая, вы пропускаете этот прекрасный рисунок?» – «О, это пустяки! Это эскиз, который я сделала с одного известного корсиканского бандита, служившего нам проводником». – «Как! Вы были на Корсике?»
Так как тогда между Францией и Корсикой еще не ходили пароходы, то пришлось узнавать, не отправляется ли какое-нибудь судно на остров, который имела намерение открыть мисс Лидия. В тот же день полковник написал в Париж, отменяя распоряжение о заказанном им там помещении, и сторговался с хозяином корсиканского галиота, отправлявшегося в Аяччо. На галиоте были две приличные каюты. Погрузили провизию; хозяин клялся, что один из его матросов – замечательный повар и не имеет себе равного в умении варить бульябес; он обещал, что барышне будет удобно, что она будет наслаждаться прекрасной погодой и прекрасным морем. Кроме того, по желанию дочери полковник поставил условием, что капитан не возьмет ни одного пассажира и направит галиот вдоль берегов острова так, чтобы можно было любоваться видом гор.
Глава 2
В назначенный для отъезда день все было уложено и отвезено на судно с утра; галиот отправлялся с вечерним попутным ветром. В ожидании отъезда полковник гулял с дочерью по Канебьер[4]. К нему подошел хозяин галиота и стал просить позволения взять с собой одного из своих родственников, то есть троюродного брата крестного отца его старшего сына, который возвращался на родину, на Корсику, по не терпящим отлагательства делам и не мог найти судна, чтобы доехать туда.
– Прекрасный малый, – прибавил капитан Маттеи, – военный, офицер гвардейских егерей; был бы уже полковником, если б тот еще был императором.
– Так как он военный… – сказал полковник. Он хотел прибавить: «Я охотно соглашаюсь, чтобы он ехал с нами». Но мисс Лидия перебила его по-английски:
– Пехотный офицер! (Ее отец служил в кавалерии, и она питала презрение ко всем другим родам оружия.) Может быть, невоспитанный человек; у него будет морская болезнь; он испортит нам все удовольствие поездки!
Хозяин судна не знал ни слова по-английски, но, кажется, понял то, что говорила мисс Лидия, по гримаске ее хорошеньких губок. Он произнес похвалу в трех частях своему родственнику, закончив ее уверением, что родственник – человек вполне порядочный, из семьи капралов, который нисколько не стеснит г-на полковника, потому что он, хозяин, берется поместить его в такой угол, где никто не заметит его присутствия.
Полковник и мисс Лидия нашли странным, что на Корсике есть семьи, в которых звание капрала переходит от отца к сыну, но так как они слепо верили, что дело идет о пехотном капрале, то и заключили, что это какой-нибудь бедняк, которого хозяин хочет взять с собою из милости. Если бы это был офицер, то пришлось бы разговаривать с ним, проводить с ним время; но с каким-нибудь капралом можно и не стесняться; без своего взвода с примкнутыми штыками, готового вести вас туда, куда вы вовсе не хотите идти, капрал не важная особа.
– Не страдает ли ваш родственник морской болезнью? – сухо спросила мисс Невиль.
– Что вы, мадемуазель! Сердце у него твердое, как скала, и на море и на суше.
– Хорошо, можете его взять, – сказала она.
– Можете его взять, – повторил полковник.
Они продолжали прогулку.
В пять часов вечера капитан Маттеи пришел звать их на галиот. На пристани, возле шлюпки капитана, стоял высокий молодой человек в наглухо застегнутом синем сюртуке, смуглый, с черными, живыми, красивыми глазами, с открытым и умным выражением лица. По осанке, по небольшим закрученным усам легко можно было узнать военного: в то время усачи не бегали по улицам и национальная гвардия еще не ввела во все семьи военной выправки вместе с привычками гвардейского корпуса.
Молодой человек, увидя полковника, снял фуражку и без замешательства и в учтивых выражениях поблагодарил его за сделанное ему одолжение.
– Очень рад быть вам полезным, мой друг, – сказал полковник, дружески кивая ему головой и входя в шлюпку.
– Ваш англичанин не церемонится, – сказал хозяину молодой человек очень тихо по-итальянски.
Хозяин приставил указательный палец пониже левого глаза и опустил углы рта. Понимающему язык знаков нетрудно было догадаться, что англичанин понимает по-итальянски и что он чудак. Молодой человек, слегка улыбнувшись в ответ на знак Маттеи, дотронулся до своего лба, как будто хотел сказать, что все англичане – люди немножко с придурью; потом он сел около хозяина и начал внимательно, но не назойливо рассматривать свою хорошенькую спутницу.
– У этих французских солдат славная осанка, – сказал полковник дочери по-английски, – оттого-то из них и легко делаются офицеры.
Потом он обратился по-французски к молодому человеку:
– Скажите, любезный, в каком вы полку служили?
Молодой человек легонько толкнул локтем отца крестного сына своего троюродного брата и, сдерживая легкую улыбку, ответил, что прежде он служил в пеших гвардейских егерях, а теперь вышел из 7-го легкого полка.
– Были под Ватерлоо? Вы еще так молоды!
– Это моя единственная кампания, полковник.
– Она стоит двух, – сказал полковник.
Молодой человек прикусил губу.
– Папа, – сказала по-английски мисс Лидия, – спросите его, очень ли любят корсиканцы своего Бонапарте?
Прежде чем полковник мог успеть перевести вопрос на французский язык, молодой человек ответил по-английски довольно хорошо, но с заметным акцентом:
– Вы знаете, мадемуазель, что нет пророка в своем отечестве. Мы, земляки Наполеона, любим его, может быть, меньше, чем французы. Что касается до меня, то, несмотря на то что наш род когда-то враждовал с его родом, я люблю его и удивляюсь ему.
– Вы говорите по-английски? – воскликнул полковник.
– Как видите, очень дурно.
Несмотря на то что его развязный тон немного задел мисс Лидию, она не могла не усмехнуться при мысли о личной вражде между капралом и императором. Это было как бы предвкушением корсиканских странностей, и она обещала себе занести эту черту в свой дневник.
– Вы, может быть, были в плену в Англии?
– Нет, полковник. Я выучился по-английски во Франции от одного пленного вашей нации.
Потом он сказал, обращаясь к мисс Лидии:
– Маттеи говорил мне, что вы приехали из Италии. Вы, без сомнения, говорите на чистом тосканском диалекте, но, я думаю, вы затруднитесь понимать наш говор.
– Моя дочь понимает все итальянские наречия, – ответил полковник, – у нее дар к языкам. Не то что я.
– Мадемуазель, поймете ли вы, например, эти стихи из одной нашей корсиканской песни? Пастух говорит пастушке:
S’entpassi ‘ndru paradisu santu, santu,E non truvassi a tia, mi n’esciria[5].
Мисс Лидия поняла и, найдя цитату дерзкою, а еще более – сопровождающий ее взгляд, покраснела и ответила:
– Сарisco[6].
– А вы едете домой в шестимесячный отпуск? – спросил полковник.
– Нет, полковник. Меня отставили с половинным жалованьем за то, должно быть, что я был под Ватерлоо и что я земляк Наполеона. Я возвращаюсь домой без надежд, без денег, как говорит песня.
И он вздохнул, взглянув на небо.
Полковник опустил руку в карман и, вертя пальцами золотую монету, придумывал фразу, с которой можно было бы повежливее всунуть эту монету в руку своего врага в несчастии.
– И я тоже, – добродушно сказал он, – сижу на половинном жалованье; но… с вашим половинным жалованьем не на что купить табаку. Возьми, капрал.
И он попробовал вложить монету в сжатую руку, которой молодой человек опирался о борт шлюпки.
Корсиканец покраснел, выпрямился, прикусил губу и, казалось, готов был ответить дерзостью, но вдруг, переменив выражение лица, разразился смехом. Полковник с монетою в руке остался в совершенном изумлении.
– Полковник, – сказал молодой человек, снова приняв серьезный тон, – позвольте дать вам два совета. Первый – никогда не предлагать денег корсиканцу, потому что между моими земляками есть такие невежливые люди, что могут бросить их вам в голову; второй – не давать людям званий, на которые они совершенно не претендуют. Вы зовете меня капралом, а я поручик. Без сомнения, разница невелика, но…
– Поручик! – воскликнул полковник. – Поручик! Но хозяин сказал мне, что вы капрал, так же как и ваш отец, и все мужчины вашего семейства. – При этих словах молодой человек откинулся и залился хохотом. Хозяин со своими двумя матросами тоже дружно расхохотались.
– Простите меня, полковник, – сказал наконец молодой человек, – но quiproquo[7] прелестно, и я понял его только сейчас. Правда, наш род гордится, считая капралов в числе своих предков, но наши корсиканские капралы никогда не носили галунов на мундирах. Около 1100 года некоторые общины возмутились против тирании горных синьоров и выбрали себе предводителей, которые были названы капралами. На нашем острове гордятся происхождением от этих в некотором роде трибунов.
– Извините меня, тысячу раз извините! – воскликнул полковник. – Вы понимаете причину моего промаха и, надеюсь, простите мне его.
И он протянул ему руку.
– Это вполне справедливое наказание за мое честолюбие, полковник, – сказал молодой человек, все еще смеясь и сердечно пожимая руку англичанина. – Я нисколько не сержусь на вас. Так как мой друг Маттеи не сумел представить меня вам, то позвольте мне представиться самому: Орсо делла Реббиа, поручик на половинном жалованье. Я догадываюсь по этим прекрасным собакам, что вы едете на Корсику охотиться; для меня будет весьма лестно познакомить вас с нашими маки и с нашими горами… если только я не забыл их, – прибавил он, вздыхая.
В это время шлюпка пристала к галиоту. Поручик предложил руку мисс Лидии, а потом помог подняться на палубу полковнику. Там сэр Томас, все еще очень сконфуженный своей ошибкой и не зная, как загладить грубое обращение с человеком, считавшим свой род с 1100 года, не ожидая согласия дочери, пригласил его ужинать, причем возобновил свои извинения и рукопожатия. Мисс Лидия слегка нахмурила брови; впрочем, она все-таки была рада узнать, что́ представляет собою капрал, да и сам гость был ей не противен. Она даже начала находить в нем что-то аристократическое; только для героя романа он был слишком развязен и весел.
– Поручик делла Реббиа! – сказал полковник, приветствуя его по-английски, с рюмкой мадеры в руке. – Я видел в Испании немало ваших земляков; это были знаменитые пешие стрелки.
– Да, много их осталось в Испании, – печально сказал молодой поручик.
– Я никогда не забуду, как вел себя один корсиканский батальон под Витторией, – продолжал полковник. – Вот это будет мне напоминать, – прибавил он, потирая себе грудь. – Целый день они стреляли из-за деревьев, из-за изгородей, и я уж не знаю, сколько людей и лошадей у нас перебили! Когда пришлось отступать, они построились и стали быстро уходить. На открытом месте мы надеялись заплатить им свой долг, но канальи, то есть извините, поручик, эти храбрецы, построились в каре, и прорвать его не было никакой возможности. Как теперь вижу посреди каре офицера на маленькой вороной лошадке; он стоял около знамени и курил свою сигару, как будто сидел в кофейне. Иногда, точно чтоб подразнить нас, их музыка начинала играть. Я пускаю на них два первых своих эскадрона… Черт возьми! Вместо того чтобы врезаться во фронт каре, мои драгуны скачут в сторону, потом делают направо кругом и возвращаются в сильном расстройстве; немало лошадей вернулось без всадников… И все время эта чертовская музыка! Когда дым, окутывавший батальон, рассеялся, я опять увидел офицера около знамени; он все еще курил сигару. Взбешенный, я сам повел последнюю атаку. Их ружья закоптились от стрельбы и не могли больше стрелять, но солдаты построились в шесть рядов, штыками лошадям в морды; это была настоящая стена. Я кричал, убеждал своих драгун, шпорил коня, чтобы заставить его идти вперед; в это время офицер, о котором я вам говорил, бросив наконец сигару, показал на меня рукою одному из своих людей. Я услышал что-то вроде: Al capello bianco![8]. У меня был белый плюмаж. Больше я не слышал ничего, потому что пуля пробила мне грудь… Это был славный батальон, господин делла Реббиа; первый батальон восемнадцатого легкого полка, весь из корсиканцев, как мне потом говорили.
– Да, – сказал Орсо, глаза которого блестели во время рассказа, – они выдержали натиск и вынесли свое знамя, но две трети этих храбрецов спят теперь на равнине Виттории.
– А не знаете ли вы случайно имени офицера, который командовал ими?
– Это был мой отец. Тогда он служил майором в восемнадцатом полку и был произведен в полковники за этот печальный день.
– Ваш отец! Честное слово, он был храбрый человек! Я с удовольствием увиделся бы с ним снова и уверен, что узнал бы его. Он еще жив?
– Нет, полковник, – сказал молодой человек, слегка побледнев.
– Он был под Ватерлоо?
– Да, полковник, но он не имел счастья пасть на поле битвы. Он умер на Корсике… два года тому назад… Боже мой, как красиво! Десять лет я не видел Средиземного моря!.. Не правда ли, мадемуазель, оно красивее океана?
– Мне оно кажется чересчур синим… и волны слишком малы.
– Вы любите дикую красоту? Если так, то, я думаю, Корсика понравится вам.
– Моя дочь, – сказал полковник, – любит все необыкновенное; вот почему ей совсем не понравилась Италия.
– Я не знаю Италии, кроме Пизы, где я пробыл несколько лет в училище, но я не могу подумать без восхищения о Campo Santo, соборе, о наклонной башне; особенно о Campo Santo. Помните Смерть Орканьи? Мне кажется, я мог бы нарисовать ее, так она мне врезалась в память.
Мисс Лидия испугалась, как бы поручик не начал восторженной тирады.
– Это очень мило, – сказала она, зевая. – Извините, папа, у меня немного болит голова; я сойду в свою каюту.
Она поцеловала отца в лоб, величественно кивнула головой Орсо и исчезла. Мужчины стали говорить о войне и охоте.
Оказалось, что под Ватерлоо они были друг против друга и, должно быть, обменялись немалым числом пуль. Это удвоило их взаимную симпатию. Они раскритиковали одного за другим Наполеона, Веллингтона и Блюхера, потом начали говорить об охоте на ланей, кабанов и муфлонов. Наконец, уже поздно ночью, когда кончилась последняя бутылка бордо, полковник еще раз пожал поручику руку, выражая ему надежду на продолжение так странно начатого знакомства. Они разошлись, и каждый улегся спать.
Глава 3
Ночь была прекрасна, луна играла в волнах; судно тихо плыло, гонимое легким ветерком. Мисс Лидии совсем не хотелось спать, и только присутствие профана помешало ей наслаждаться ощущениями, которые испытывает в море всякое человеческое существо, если у него в сердце есть хоть крупинка поэзии. Решив, что молодой поручик крепко спит, как и следует такому прозаическому существу, она встала, надела шубку, разбудила свою горничную и вышла на палубу. Там был только один матрос у руля; он пел по-корсикански какую-то жалобную песню на дикий и монотонный мотив. В ночной тишине эта странная музыка не лишена была прелести. К несчастью, мисс Лидия не вполне понимала, что пел матрос. Среди многих общих мест энергический стих живо возбуждал ее любопытство, но как раз на самом интересном месте встречалось несколько местных слов, смысл которых был ей недоступен. Однако она поняла, что дело шло об убийстве. Проклятия, направленные против убийц, угрозы отомстить, похвала убитому – все это сливалось в одно. Она уловила несколько стихов, которые я попробую перевести:
…Ни пушки, ни штыки не могли заставить побледнеть его чело, ясное на поле битвы, как летнее небо. Он был сокол, друг орла, мед для своих друзей, для врагов разгневанное море. Выше солнца, милее луны. Его, грозу для врагов Франции, двое убийц, его земляков, поразили ударом в спину – так Виттоло убил Сампьеро Корсо[9]. – Они никогда не осмелились бы взглянуть ему в лицо. – Повесьте на стене перед моей постелью мой честно заслуженный почетный крест. – Красна его лента. – Еще краснее моя рубашка. – Моему сыну, моему сыну в далекой стране сберегите мой крест и окровавленную рубашку. – Он увидит в ней две дыры, – за каждую из них по дыре в другой рубашке. – Но буду ли я тогда отомщен? – Мне нужна рука, что стреляла, глаз, что целился, сердце, что думало…
Матрос вдруг остановился.
– Почему вы не продолжаете? – спросила мисс Невиль.
Матрос кивком головы показал на человека, выходившего из рубки галиота. Это был Орсо, пришедший полюбоваться лунным светом.
– Кончайте же вашу песню, – сказала мисс Лидия, – она мне очень понравилась.
Матрос наклонился к ней и тихо сказал:
– Я не делаю rimbecco никому.
– Как? Rim…
Матрос не ответил и принялся свистеть.
– Вы восхищаетесь нашим Средиземным морем, мисс Невиль? – спросил Орсо, подходя к ней. – Согласитесь, что нигде нет такой луны.
– Я не смотрела на нее. Я была занята изучением корсиканского языка. Этот матрос пел какую-то трагическую жалобу и остановился на самом интересном месте.
– Что ты пел, Паоло Франче? – спросил Орсо. – Ballata? Или vocero[10]? Барышня понимает тебя и хотела бы послушать конец.
– Я забыл его, Орс Антон, – сказал матрос. И он сейчас же начал голосить во всю мочь песнь Пресвятой Деве.
Мисс Лидия рассеянно слушала ее и больше не беспокоила певца, пообещав себе, однако, узнать потом разрешение загадки. Но ее горничной, флорентийке, понимавшей корсиканское наречие не лучше своей госпожи, также очень хотелось узнать ее, и, прежде чем мисс Лидия успела толкнуть ее локтем, она обратилась к Орсо:
– Господин капитан, что это значит – сделать rimbecco?
– Rimbecco! – повторил Орсо. – Это значит нанести смертельное оскорбление корсиканцу; это значит упрекнуть его в том, что он не отомстил за себя. Кто вам говорил о rimbecco?[11]
– Вчера в Марселе, – торопливо ответила мисс Лидия, – хозяин галиота употребил в разговоре это слово.
– А о ком говорил он? – оживленно спросил Орсо.
– О! Он рассказывал нам старую историю… из времен… да, кажется, он говорил о Ванине д’Орнано.
– Смерть Ванины, я думаю, не внушила вам любви к нашему герою, храброму Сампьеро?
– Но разве вы находите, что тут было геройство?
– Его преступление оправдывается дикими нравами того времени. А кроме того, Сампьеро вел смертельную борьбу с генуэзцами; какое бы доверие могли иметь к нему земляки, не накажи он женщину, хотевшую вступить в сношения с Генуей?
– Ванина, – сказал матрос, – ушла без позволения мужа; Сампьеро хорошо сделал, что свернул ей шею.
– Но ведь она пошла к генуэзцам вымолить помилование мужу для его же спасения, из любви к нему.
– Просить о его помиловании значило унизить его! – воскликнул Орсо.
– А он ее убил! – продолжала мисс Невиль. – Какое он чудовище!
– Вы же знаете, что она просила у него, как милости, смерти от его руки. Неужели, по-вашему, Отелло тоже чудовище?