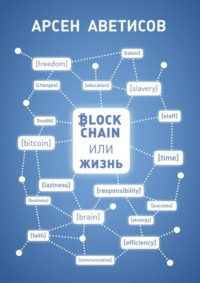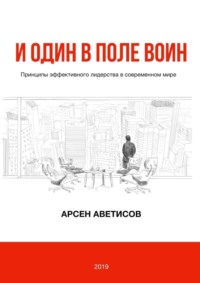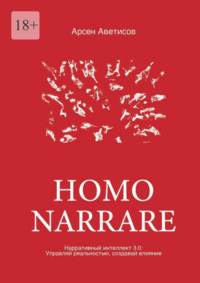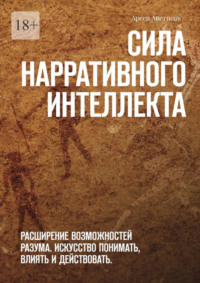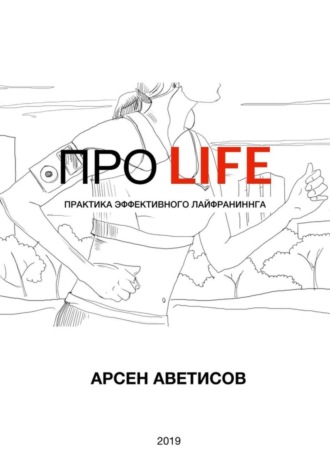
Полная версия
ПРО LIFE. Практика эффективного лайфраннинга
Люди поступают согласно тому, как они понимают и во что верят. И им легче поверить в истории, чем в регламенты, инструкции и законы. Таков наш мир, и в нём очень и очень много историй.
В нашем ряду сразу через проход молодая женщина наставляла свое шестилетнее чадо, как правильно вести себя во время обеда на высоте 10 000 метров. Допив кофе, Пастырь с интересом наблюдал за её ультимативными наставлениями.
– Вы заметили, как мы постоянно пытаемся «воспитывать» наше окружение, – обратился он ко мне, кивая в сторону матери и её сына, – и как мы стараемся делать это везде и со всеми – начиная от детей и заканчивая нашими коллегами.
Я пока не собирался продолжать работу над книгой, поэтому включился в беседу, утвердительно наклонив голову.
– А вы замечали, как мы это делаем, – продолжил Пастырь, – и какая из наших обучающих практик получает всё большее и большее распространение? – Он заглянул мне в глаза и, обнаружив в них полное незнание ответа на этот вопрос, сказал:
– В большинстве случаев мы пользуемся методами принуждения к необходимому нам поведению. Примерный алгоритм построения этого принуждения, который мы называем уроком, выглядит так.
Он показал мне свою открытую ладонь и ткнул в неё пальцем.
– Вот список, назовем его список №1, того, что делать нельзя, – то, что сейчас демонстрирует молодая мама рядом с вами. Если после ознакомления со списком нам отвечают: «А что, если будет не так, как в указанном списке №1? Что нам делать в таком случае?», – Пастырь показал мне другую свою ладонь и также ткнул в неё пальцем, – мы в таком случае отвечаем: «Тогда надо использовать возможности из нового списка №2». Но, как вы уже догадались, после нашего наимудрейшего списка №2 нас не оставят в покое: «А если будет случай не из списка 1 и не из списка 2, то что нам делать тогда?» Ну и так далее…
С этими словами Пастырь развел ладони в стороны и показал глазами на пустое пространство между ними.
– Но самое интересное наступает тогда, когда спрашивающие, не найдя в этих списках каких-то своих вариантов и смыслов, но ещё продолжающие принимать эти алгоритмы за обучение, неожиданно задаются вопросом: «А собственно говоря, почему надо именно так, к чему все эти списки, эти пункты и именно эти действия?» И тогда наступает апогей всей этой истории обучения правилам, и произносится самый веский аргумент наставника: «Поверь моему жизненному опыту». – И Пастырь пальцем указал на свой висок, как место в голове, где и сосредотачивается жизненный опыт.
После этого он устало отвел глаза от ничего не подозревающей женщины, старательно продолжающей поучать своего ребенка, и вопросительно посмотрел на меня.
– А вы думаете, они знают, что такое жизненный опыт, на самом деле?
Пока я раздумывал и пытался сформировать своё определение жизненного опыта, он продолжил свои размышления вслух:
– К примеру, если мы говорим о профессиональном опыте, то понимаем это как навыки, знания и практика в какой-то конкретной области деятельности. И неважно, в какой – будь вы столяр, бухгалтер или программист. То есть вы обладаете знанием и практикой, которые позволяют вам решать какие-то проблемы, задачи. И на основании их многократного применения у вас есть уверенные ожидания последующих результатов. То есть вы – специалист, или как это модно сейчас, эксперт. Верно?
Я кивнул в ответ, хотя сразу вспомнил пару случаев, когда мои сомнения были уместны даже после тысячекратной практики.
– Если мы говорим об опыте обучения, – продолжил Пастырь, легким жестом указав на соседку с ребенком, – то под этим мы понимаем владение технологиями эффективной передачи знаний. И это, по большому счёту, не должно зависеть от того, что мы преподаем: нормы поведения во время обеда в самолете, тонкости слесарного дела, написание программных кодов или расчленение мышц и фасций. А если ваши ученики еще долгое время будут помнить и использовать знания, полученные на ваших уроках, то вас оценят как опытного преподавателя.
– Вы имеете в виду – как эксперта, – добавил я, показывая, что внимательно слушаю его.
Пастырь не отреагировал на мое уточнение, но сделал паузу и, глубоко вдохнув, дал понять, что сейчас будет самый главный момент его размышлений:
– Так что это означает на самом деле, когда мы утверждаем, что у нас большой жизненный опыт? – Пастырь демонстративно умолк, но не отводил от меня глаз, давая понять, что все мои возможные ответы будут неправильны. – Как это можно оценить? – уже тихо и вкрадчиво продолжил он. – Как это можно измерить? Как выглядит этот товар с названием «мой богатый жизненный опыт»?
– Может, это осмысленная форма наших жизненных событий, того, что происходило и происходит с нами? – Я решил наконец перехватить инициативу в диалоге, тем более что эта тема для меня была и известной, и особенной. – Я думаю, что, если вы спросите меня о моем жизненном опыте, я начну вспоминать что-то про свою жизнь. Про увиденное, сделанное, обдуманное, сказанное. Что-то, что я запомнил лучше. Может, даже некий список того, что делать можно, а что нельзя. – И я так же показал взглядом на соседку. – Это даже могут быть сказки, которые нам рассказывали в детстве и которые мы каждый раз искренне переживали. Может, все эти истории и есть то, что мы называем наш жизненный опыт. И наверно, вопрос в том, как сформировать и передать эту осмысленную совокупность жизненных событий. Вопрос в методике, в технологиях, – расслабленно рассуждал я.
Всё это время мой собеседник сдержанно улыбался, но после того как прозвучали мои слова о методике, он поднял брови и уже воодушевлённо подхватил мои предположения:
– Вот именно! Именно в методике. И к этой методике нас готовили с детства. Вы, наверно, замечали, что наши дети охотно забывают наши нравоучения и поручения, но четко цитируют придуманных персонажей из многочисленных историй Диснея. Мы давно, очень давно приучены воспитываться и обучаться именно на историях. Нашему мозгу удобней и привычней воспринимать знание, переработанное в истории, чем запоминать регламенты, формуляры и списки. Ну а если мы уже не дети? Тогда рассказывать нам сказки, наверно, по меньшей мере странно? – спросил он, давая понять, что ответ он даст через секунду.
Но я его опередил:
– Для взрослых есть свои формы и методы передачи знаний, поверьте моему жизненному опыту.
Пастырь ухмыльнулся, будто усомнившись моём жизненном опыте, но меня это не смутило, и я продолжил:
– И подобных способов передачи опыта много. Например, такие специалисты, как консультанты, делятся знаниями, тренеры обучают практическим навыкам, коучи помогают в достижении целей, а наставники транслируют ценности. Но сегодняшняя проблема в другом, в том, что современному человеку необходимо всё это вместе. Ему необходима комплексная система обучения навыкам и развития его знаний. Ему нужна системность в совершенствовании мировоззрения и поддержании жизненного баланса. А это именно то, что и называют нашим жизненным опытом, – заключил я и посмотрел на Пастыря. Мне показалось, что он пытался скрыть удивление от моей насыщенной профессиональными терминами речи, и я решил эффектно закончить свой спич: – И если вы меня спросите, чем занимаюсь я, то я вам отвечу, что, по сути, я занимаюсь именно такой трансформацией, позволяющий перевести жизненный опыт в капитализированную и ценностную систему. – Сказав это, я и сам удивился тому открытию, которое я сделал для себя, и меня уже нельзя было остановить: – А что тогда сказки? – всё же спросите вы. А вот сказки – это и есть всё остальное.
Я выдохнул, поставив, на мой взгляд, жирную точку в этом обмене мнениями.
Встретившись глазами с Пастырем, я увидел, что он снисходительно улыбается мне, как ребенку, который рассказывает взрослому, что он умеет делать в песочнице. Мне пришлось улыбнуться в ответ.
Не знаю, какое впечатление произвела на Пастыря моя вымученная улыбка – результат загруженной рабочей недели. Скорее всего, он её принял за приглашение объясниться.
– Наверно, это не принято – активно общаться с соседом по креслу, но поверьте, самолет в этом мире стал практически единственным местом, где общению никто и ничто не может помешать, кроме стюардов, – сказал Пастырь, кивнув на удалявшихся бортпроводников. – Конечно, у вас есть выбор: надеть наушники или погрузиться в сон. А еще извиниться и, сославшись на срочную работу, продолжить попытки сосредоточиться на каком-то из ваших проектов.
– Ну что вы, совсем не так. Мне очень интересно общение с вами, – как можно дружелюбнее ответил я. Хотя меня еще не покидало желание что-то доделать, которое я объяснял себе как синдром потерянного времени.
– Я вас понимаю. На самом деле вы можете думать, что время, проводимое в ничего не значащих разговорах, – потерянное время. А когда вы стучите по клавишам – это именно то, что нужно, – угадывая мои мысли, продолжил Пастырь, – но вы сами прекрасно знаете, что это не так… Потому что человек создан не для того, чтобы отдыхать и работать. Человек создан для того, чтобы жить.
Я окончательно закрыл ноутбук и спокойно смотрел, как затухает надкусанное яблоко на его крышке. Яблоко потухло – ничего не поменялось. Наоборот, стало как-то посвободнее.
– Да, я знаю, что отвлекаю вас от работы, которую вы планировали сделать во время полёта, – учтиво продолжил Пастырь, указывая взглядом на мой уже скучающий ноутбук на кресле между нами, – а вы из-за своего представления о культуре поведения с незнакомыми соседями не прерываете нашу беседу, хотя вроде и не очень поддерживаете. Но, думаю, вопрос не только в вашей культуре. Вы и сами еще не готовы в самолете доделать эту вашу работу. Вам больше хочется что-то послушать, просто поговорить. Наверно, потому, что вы понимаете, что такие разговоры, в отличие от работы, вас ни к чему не обязывают. Четыре часа полета не настолько критичны для любого рабочего графика и любой загруженности.
– Вы правы, эти четыре часа не критичны, – устало подтвердил я.
– Всё дело в том, что мы делаем то, что хотим делать, а потом объясняем себе, почему мы не могли поступить по-другому. Но в большей степени всё это оправдания. Ваше нежелание работать вы оправдываете назойливым соседом в моём лице. Именно такая роль уже уготована мне в вашей истории.
– Да нет, что вы! Вы мне очень интересны, – возразил я.
– Не сомневаюсь, – нескромно заметил Пастырь, – а что на самом деле вы хотите больше: доделать работу или узнать новое, необычное, полезное?
– Выбор очевиден: конечно, узнать новое!
– Например, то, что уже прозвучало в нашей беседе, верно? – Пастырь ждал подтверждения.
– Конечно!
– Вот видите. А если рассматривать именно в этим ракурсе наше времяпрепровождение, то время становится критичным. У нас с вами есть всего лишь эти четыре часа, чтобы научиться чему-то новому.
– Я прошу прощения, но мне кажется, что вы играете понятиями, – вежливо возразил я.
– Нет, поверьте, фактически понятия как раз остались прежними. Мы в самолёте и полёт по-прежнему будет длиться четыре часа. Я просто наполнил это время другим смыслом, и всё поменялось. Поменялось то, что вы будете делать во время полёта и с чем приземлитесь после его окончания. Так же, как и наши истории – они могут быть очень похожими, но отличаться смыслами, которые мы в них вкладываем.
Нас прервала стюардесса, протянувшая руку в тонкой синей перчатке и предложившая забрать пустые стаканы и всё, что осталось от скромного обеда. Пастырь знаком показал, что он ещё не допил, стюардесса отъехала, а Пастырь продолжил:
– Я извиняюсь, а чем, собственно говоря, вы занимаетесь, кроме трансформации, позволяющей перевести жизненный опыт в капитализированную и ценностную систему? – процитировал мои слова Пастырь.
Вопрос застал меня врасплох, я думал, эта тема закрыта. Если я действительно начну объяснять Пастырю что-то про эмоциональную компетентность, коучинг и еще бог знает что, это будет совершенно несуразно и утомительно. Поэтому я ответил просто:
– Я обучаю людей. Взрослых людей.
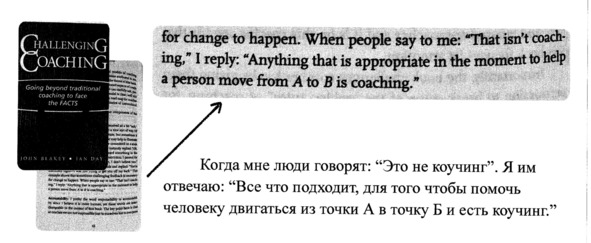
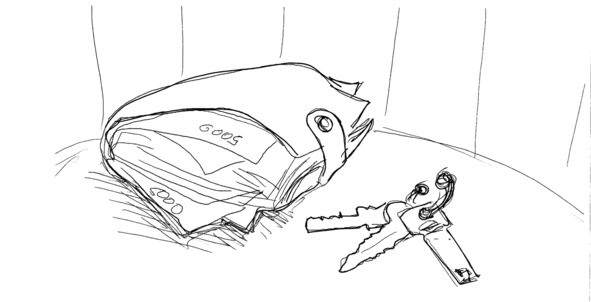


ШКОЛЫ ЖИЗНИ
Каждый получает собственный опыт,
который является для него единственно верной школой.
Шарль Азнавур
Последние двадцать лет представители разных специальностей и направлений по обучению и развитию человека старательно демонстрировали отличия своих методик от всех остальных: коучинга от психотерапии, менторинга от коучинга, консалтинга от тренингов, коучинга от консалтинга и так далее. В разграничении и формировании новых профессий, новых продуктов и новых рынков всегда есть практический смысл. То было время разбрасывать камни.
Но сейчас часть человеческой деятельности, направленная на развитие личности, и люди, занятые ей, переживают новый этап. Большинство сходятся во мнении, что особенные успехи достигаются при сопряжении или на стыке тех или иных методов и направлений. И, собственно говоря, не столь важно, как называть это сопряжение, главное в конечном итоге – это результаты. Или, по-другому, – пришло время собирать камни. Но, собирая камни, есть искушение угодить в другую ловушку: использовать все методики подряд, руководствуясь вышеупомянутым принципом «всё, что не убивает меня, то делает меня сильнее». Но если что-то не убивает меня, ещё не факт, что это делает меня сильнее. Сильнее делает меня то, что действительно делает меня сильнее. Тавтология? Нет. У человека сегодня просто нет времени соглашаться с тем, что не убивает его, и не пробовать новое и более убедительное. У нас есть возможность усовершенствовать систему нашей жизненной отчётности и не ждать дедлайна ‒последнего дня, когда это привычное всё же убьет нас.
Во многих источниках и сообществах профессионалов появляются осторожные мнения о том, что в отдельных случаях допустимо использование методик из другой области, даже если это противоречит этическим нормам или компетенциям профессии. Такая позиция объясняется и оправдывается тем, что иногда решаемые проблемы затрагивают одномоментно многие стороны жизни и одной технологии или метода бывает недостаточно.
Если взглянуть на это с более практической стороны, то обнаруживается, что при всём многообразии случаев работы с личностью причины того, что мешает её успеху, как правило, сводятся к трём пунктам: недостаточному практическому опыту, недостатку знаний и технологий и недостатку самоосознания. Но чаще все эти причины встречаются вместе и влияют на поведение и развитие человека в целом. Чтобы эффективно взаимодействовать и продвигать таких людей вперёд, приходится менять свой узкоспециализированный подход и расширять арсенал применяемых методик. Таких методик несколько.
Во-первых, это консалтинг – предложение того, что нужно сделать клиенту, чтобы решить проблемы прямо сейчас. Эти немедленные решения иногда не имеют долгосрочной практической ценности. Поскольку, как бы ни старались консультанты разработать и представить самый дальний горизонт решений, в мире всегда больше места для импровизаций, чем для следования сценарию.
Во-вторых, это наставничество. Обмен опытом для более глубокого понимания проблем, с которыми сталкиваются люди. Наставничество помогает улучшить мышление и с течением времени развить свои инстинкты понимания.
В-третьих, это тренерство. Обучение навыкам, обмен знаниями и практические примеры применения компетенций. Наставничество, тренинги и консалтинг являются основными решениями, когда существуют пробелы в знаниях и навыках.
И, наконец, это коучинг. Сотрудничество и взаимодействие на совершенно другом качественном уровне, когда надо расширить понимание проблемы. Коучинг помогает получить ясность в целях и видении будущего, определить препятствия и создать стратегию преодоления этих препятствий. Это происходит через многочисленные коучинговые приёмы и практики. Но одно из «узких» мест коучинга – это необходимость в процессе сессии оставаться в настоящей «коучинговой» позиции. А если за плечами коуча личные достижения и успех в реальном бизнесе, когда он сам долго и регулярно находился в той позиции, где сейчас стоит его клиент? Такой коуч априори знает, что и как нужно сделать. Но соблюдение принципа отсутствия директивности принуждает его сдерживать свои идеи, убеждения и не позволяет делиться ими с клиентом.
И ещё потому, что главная задача коучинга – помочь клиенту принять наиболее обоснованное и осознанное решение, независимо от того, каким по результативности оно будет в конечном итоге. Для коуча это означает задавать вопросы, которые вдохновляют на саморефлексию, создавать модели, которые помогают понять то, кем является клиент, как он себя ведёт, каковы его сильные стороны и какие личные проблемы и трудности могут ему мешать. Но ни в коей мере не давать советы.
История об эффективности коучинга как методе взаимодействия с людьми сегодня получила своё продолжение. Обнаружив значительную эффективность совмещения нескольких методик, специалисты-коучи начали упоминать о том, что они проводят так называемый гибридный коучинг, комбинируя наставничество с беседой. Они вполне резонно оправдывают это тем, что клиенты, чтобы избежать принятия неправильных решений, платят коучам не только за коучинг, но и за их мнение и их опыт. Но, строго говоря, понятия «гибридный коучинг» не существует. Вы либо «коучите», либо занимаетесь чем-то другим. И, возможно, это что-то именно то, что нужно. Понятно и такое отношение к гибридному коучингу. Смешивание наставничества, консалтинга и всего другого снижает ценность коучинга. А клиенты начинают ожидать лёгкого выхода из ситуации, готового решения и становятся в большие очереди, чтобы им сказали, что и как делать. Это, возможно, и эффективно, но тогда клиенты упускают возможность испытать лучшую из имеющихся технологий долгосрочных изменений в их поведении, каким является коучинг.
Есть и другая часть специалистов, которые, называя себя коучами, заявляют, что просто задавать вопросы – пустая трата времени людей. Тем самым они обосновывают свою стратегию давать клиентам советы. Можно согласиться, что только задавать вопросы – неэффективная трата времени. Но поэтому коучинг и включает в себя множество других разговорных практик, обобщений, замечаний, эмоциональных сдвигов, признание смелых решений и многое другое.
Вопрос на самом деле в другом. Если это коучинг – то ли это, что действительно нужно человеку? Во многих случаях люди не нуждаются в коучинге. Таким образом, надо изначально определить, что хотят от вас как от специалиста, и только потом назвать своим именем то, что вы собираетесь делать, чем бы это ни было, – тренинг, коучинг, наставничество или консалтинг.
Иногда клиентам нужен просто человек, который их выслушает, внимательный собеседник, друг. Так и спросите вашего клиента: «Что вы хотите от меня прямо сейчас?» И даже если он вам точно сформулирует свои требования, ещё раз убедитесь в его готовности сотрудничать, взаимодействовать, узнавать новое и менять старое. Готов ли он меняться с вами или без вас? Готов ли он подвергать сомнению свои собственные мысли и взгляды и принимать новые, потому что коучинг – это готовность исследовать идеи, убеждения и предположения. Это возможность увидеть то, что сами клиенты не видят самостоятельно. В любом случае, в каждом конкретном случае необходимо сначала убедиться в том, что именно коучинг является здесь правильным вариантом и данная проблема не следствие недостатка опыта и знаний. И в любом случае невозможно коучить что-то из ничего.
Очевидно и то, что коучинг эффективней, когда у коуча есть некоторые реальные знания и навыки из области деятельности клиента, на которые он может опираться. А клиент иногда и сам знает, что он хочет делать, и ему просто нужно подтверждение этого. У коучей на этот случай есть техническое допущение, лазейка, когда им всё же что-то надо делать со своими советами. Достаточно просто спросить у клиента разрешения выйти из коучинга, чтобы представить свои личные предложения по решению проблемы.
Но возникает логический вопрос: зачем столько условностей, реверансов и прочего, если есть быстрое и эффективное решение? Зачем путаться с определениями, если достаточно действительно назвать всё своими именами и продолжить двигаться дальше с большей пользой и скоростью из точки А в точку Б, как говорил Джон Уитмор. Очевидно, что для многих людей сочетание самоанализа с консультациями, наставничеством и тренингами есть реальная, а может, и единственная возможность измениться. При работе с людьми всегда эффективно использовать разные подходы, и надо перестать лукавить и наконец дать название и определение той ситуации, когда это применяется параллельно.
– Учите взрослых людей? А у вас интересная работа, – сказал Пастырь. – Я вам уже говорил, что я священнослужитель?
– Я это понял.
– Вы поняли, что я священник? Я думаю, это было нетрудно определить, верно?
– Верно, – согласился я, – и, на мой взгляд, ваша работа очень важна.
Я почему-то решил показать ему своё уважительное отношение к служителям церкви. Может, в ответ на то, что он назвал мою работу интересной.
– Это действительно так, – согласился Пастырь, – и не только потому, что вера в широком смысле – это намного больше, чем методы и концепции. Хотя я не исключаю, что всё в мире в какой-то мере является концепцией. А наша деятельность она касается концепции стремления людей к счастью.
Немного подумав, он добавил:
– И пониманию своего места в этой концепции.
– Вот именно, – подхватил я, – но вопрос в том, что в вашем случае это место вполне определено. А нам приходится его ещё искать или даже придумывать.

КАК МЫ ВИДИМ МИР
То, что ты видишь, зависит от того, как ты смотришь.
Такова природа человека, что он постоянно ищет подтверждение тому, что он предполагает, даже если это предположение логически обосновано и просто очевидно. Ответы человек ищет в научных исследованиях и основанных на этих исследованиях теориях. Теориях, которые, впрочем, должны подтверждаться практикой.
За последние годы знания о человеке и наша система понятий ушли далеко вперёд. Человечество всегда интересовали вопросы: как мы воспринимаем всё, что с нами происходит, как обрабатываем информацию от окружающего мира и как её запоминаем. В этой сфере было проведено несколько значимых исследований и сделано несколько знаменательных открытий, о которых нельзя не упомянуть.
Канадский психолог Аллан Паивио долгое время работал над проблемой психологии памяти. Основной вопрос, который его интересовал, – как мы запоминаем всё то, что видим, слышим и чувствуем. На основании своих наблюдений и размышлений Паивио выдвинул идею существующей у человека системе двойного кодирования. А если быть точнее, идею о наличии двух таких систем – визуальной и вербальной. Аллан предположил, что при обработке визуальной и вербальной информации эти две системы работают параллельно. Они одновременно создают самостоятельные представления об увиденном, услышанном и прочувственном, производя некие специфические для своих систем коды. Созданный системой визуальный код отвечает за решение задач в пространстве здесь и сейчас, а выработанный вербальный код обеспечивает работу с абстрактной символикой, которая помогает представлению чего-либо в перспективе, пространстве текущего времени. При этом каждая из этих систем иерархически самоорганизуется на четырёх уровня взаимодействия.
На первом, начальном уровне иерархии происходит чувственная обработка получаемой информации – это этап восприятия. На втором уровне уже обработанная информация начинает контактировать с существующей системой долговременной памяти с целью найти в ней ассоциации, связанные с этой информацией.
После этого в памяти активизируются элементы, которые имеют сходство с этой информацией или ассоциируются с ней. Поэтому третий уровень иерархии носит название ассоциативного. И наконец, на самом последнем, четвёртом уровне вербальная и визуальная система взаимодействуют друг с другом и представляют конечную референцию полученной информации, для того чтобы в дальнейшем её каталогизировать и запомнить.