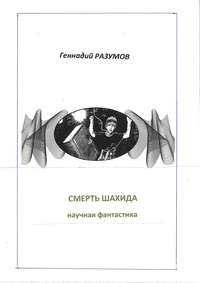Полная версия
Зебра полосатая. На переломах судьбы

Геннадий Разумов
Зебра полосатая. На переломах судьбы
И не надо портить нервы.Вроде зебры жизнь, вроде зебрыЧерный цвет, а потом белый цвет —Вот и весь секрет!сл. Л.Дербенева, муз. А.Зацепина, 1971 гАннотация

Чем выше мы взбираемся по ступеням лет, тем делаемся более дальнозоркими, тем большее пространство охватывает наш широкоформатный взгляд. Зато мельче, непонятней становятся отдельные частности, неразличимее детали. Надо одевать очки.
Но есть люди, глаза которых не тускнеют от времени, и они без всяких линз видят прошлое, сохраняя в памяти множество имен, названий, фактов, дат. Такой способностью поразил автора этой книги его сослуживец Евгений Зайдман. В течение многих вечеров за чашкой кофе или кружкой пива он рассказывал ему о себе.
Оказалось, что не только следователь уголовного розыска и резидент иностранной разведки может похвастаться необычайными событиями своей жизни. На переломах судьбы простые смертные тоже ввергаются в крутые повороты, зигзаги, их жизненный путь тормозится трудными подъемами и опасными провалами.
Надо лишь приглядеться, вспомнить, осмыслить и рассказать о прошедших годах.
И подумать, почему пришлось пешком преодолевать трудности полосатой зебры жизни, почему не сменил ее прямолинейность на многоходовость шахматной доски, не пробрался из пешек в офицеры, не плавал ладьей, не ходил конем.
Предисловие
Знакомый незнакомец
Прощусь покуда с мыслями угрюмыми.И стану о былом писать моем:Былое, разукрашенное думами,роскошным выливается враньем.И. Губерман
Прятавшееся за оградой плотных облаков, вечернее солнце нашло просвет-бойницу и ударило в глаза прямой наводкой. Наверно, поэтому я не разглядел шедшего навстречу человека, который, вдруг остановившись, пристально на меня посмотрел.
– Здрасьте, – сказал он нерешительно.
– Здрасьте, здрасьте, – ответил я и для приличия добавил: – Как поживаете, что новенького.
– Как-то так, ничего, вроде бы. Не совсем о'кей. Скорее, фифти-фифти. Но жить можно. А у вас что?
– Да, вот тоже, живу-поживаю.
Я напрягся и с усилием стал вспоминать, где встречал этого старого еврея, но ничего не надумал.
– Главное, – многозначительно продолжил я на всякий случай, – держаться в вертикальном положении.
– Да, уж, – откликнулся знакомый незнакомец, – в наши-то годы. Если бы только не этот проклятый артрит – то в правую коленку, собака, вцепится, то в левую.
– Много еще и от погоды зависит, – взглянув на темнеющее небо, поддержал я злободневную тему.
Потом снова раздумчиво покосился на казавшуюся такой знакомой физию собеседника.
"Кто же это такой?”, – ворочались у меня в голове вопросы-бревна, но вместо ответа зачем-то построили какую-то кривую избушку бесполезного воспоминания.
Во время одной из частых тогда командировок повстречался мне в местном рейсовом автобусе некий москвич, которому, по его словам, я тоже показался знакомым. Мы разговорились, стали долго и подробно перебирать в памяти школьных и институтских друзей, приятелей, коллег и только после целой серии мозговых атак догадались в чем дело.
Выяснилось, что в течение несколько лет подряд по дороге на работу мы ежедневно по утрам встречались у метро Семеновская – я входил в него, а он выходил. Вот и пригляделись лицами.
Но здесь, чувствовалось, было что-то другое, более близкое, тесное, долговременное. И тут очень кстати я неожиданно услышал встречную подсказку:
– Пожалуй, с тех пор, как мы с вами работали в Гипроводхозе, много воды утекло. А вы, вижу, меня, кажется, не узнали.
"Ну, конечно же, – сообразил я, – это же Вайнштейн из Строительного отдела, что же я сразу не разобрался. Вот болван”.
– Помню, помню, как же, как же, – соврал я, – мы с вами тогда по многим вопросам общались. Разве забудешь свары в кабинете замдиректора? И драчки за квартальные премии.
– Да, уж было дело. А помните, как мы на картошку ездили? И не единожды. А как-то раз в совхозе под Волоколамском почти две недели проторчали. Еще дожди тогда пошли, и мы на работу дня три не ходили, все водку хлестали и огородным лучком закусывали. Клёвые времена были, молодые, озорные.
Его глаза загорелись веселыми огоньками, губы расплылись до ушей. Он помолчал, наслаждаясь приятными воспоминаниями, потом добавил с хитроватой усмешкой:
– А Людочку из Планового отдела помните? Как же хороша она тогда была в той своей юной зрелости. У нас с ней тогда все и началось.
Услыхав такое, я чуть не задохнулся от гнева. Уши мои вспыхнули горячим огнем, щеки покрылись рваными красными пятнами.
"Ах, ты мерзавец, – взорвался я запоздалой ревностью. – Никакой ты, оказывается, не Вайнштейн из Строительного, а тот паршивый фрукт Женька Зайдман из Гидротехнического. Это ты отбил у меня Людмилу, которая тогда под вечер от меня к тебе в палатку убежала. А я ведь, дурак, чуть ли не жениться на ней собирался, даже, кажется, предложение ей делал. А ты, скотина, переманил девку”.
Отдышавшись и погасив приступ ярости, я взял себя в руки, несколько раз глубоко вздохнул, немного успокоился и подумал:
"Однако, чего так раскипятился? Совсем с катушек скатился. Черт с ним, и со всем этим прошлым. Подумаешь, ну переспал с Людочкой один раз. Делов-то. Будет он за это в аду баланду хлебать”.
Я отвернул рукав куртки и с нарочитой озабоченностью посмотрел на стрелки своих сейковских.
– О, уже время, мне пора, – заторопился я, резко повернулся и, бросив злой взгляд на своего старого соперника, стремительно шагнул в сторону. Надо побыстрее отвалить от этого негодяя.
Но вдруг остановился, подумал и решил с уходом повременить. Снова направил взгляд на Зайдмана и, проглотив слюну, которой только что чуть было в него не плюнул, спросил:
А кого вы еще видели из наших гипроводхозовских сотрудников?
– Как это кого видел, – удивился тот, – каждый день вижу. Неужели вы не знаете? Ту самую Люду ежедневно и вижу. Как же ее не видеть – она ведь моя жена. Разве не помните, что мы с ней после той картошки и поженились?
"Ого-го”, – вздрогнул я от неожиданности. Вот оно что! Каков прикол, каков поворот сюжета. Ну, и дела.
Откуда же я мог об этом знать? Ведь я тогда так обиделся и расстроился, что перешел даже работать в другое помещение института. Чтобы рожу этого типа больше не встречать.
А у них-то, оказывается, все было вполне серьезно, никакая не банальная интрижка, как я тогда подумал, а что-то, вроде бы, любовь.
Впрочем, теперь никакого значения это не имеет, так, лабуда, ништяк.
Я окончательно остыл и опять повернулся к бывшему сослуживцу:
– Ну, хорошо, Люда, так Люда. А еще кого-нибудь встречали?
– Даже не припомню, кажется, никого особенно. Впрочем, – Зайдман задумался, поморщил лоб и, прикрыв веки, сказал неуверенно: – Последний раз по телефону разговаривал с Разумовым, наверно, помните такого. Вы-то не встречали его случайно?
Вдруг он осекся, вновь со вниманием уставился на меня, и слышно стало, как в его лысом черепе заскрипели ржавые колесики мозговых извилин. Затем он густо покраснел, вытер со лба капли пота бумажным платочком и тихим хриплым голосом смущенно залепетал:
– Ой, Геннадий, простите, бога ради. Как же это я сразу не узнал вас? Почему-то решил, что вы – Вайнштейн из Гидротехнического отдела. Надо же так перепутать. Ой, как стыдно.
Вот мы были и квиты. Я удовлетворенно про себя хихикнул и с удовольствием, как в мягкое кресло, погрузился в хорошее расположение духа.
Но, собственно говоря, могло ли быть иначе? Ведь мы оба были стары, слабы мозгами, и нас обоих неудержимо настигал и цепко хватал за шкирку вреднючий пес-склероз.
И я уже без прежней недоброжелательности похлопал Зайдмана по плечу.
– Ладно, чего уж тут. Пошли лучше пивка попьем, – предложил я, и тот сразу же согласился.
Мы зашли в ближайшую забегаловку и просидели там добрых пару часов. Все говорили, говорили, вспоминали, вспоминали – ностальгировали.
Потом долгие годы мы с Зайдманом приятельствовали, постоянно встречались, посвящали друг друга во все свои дела и заботы, делились радостями и обидами, надеждами и разочарованиями, жаловались на детей и артрозные коленки. Оказавшись близкими соседями, мы почти каждый вечер выходили скрести красовками асфальт уличных тротуаров, гуляли, смеялись, грустили, заходили в кафушки попить чайку, пива, а изредка и чего-нибудь покрепче.
Евгений Айзикович оказался неплохим рассказчиком, и я слушал его в оба уха, с каждым разом все больше утверждаясь в том, как тесно схожи наши жизненные пути и как близко совпадают они с судьбами многих других моих сверстников. Мы оба, попав по случаю в XXI-й век, перешагнув порог тысячелетий и чуть было об него не споткнувшись, пытались теперь хоть как-то к нему притереться. То с большим, то с меньшим успехом.
* * *Переданные нам чужие мысли, истории, анекдоты, попав в черепную коробку, накапливаются, собираются в кучу, выстраиваются в пирамиду, вытягиваются в ряд, оттачиваются, дополняются, а потом вдруг как завопят: “Да, мы вовсе не чужие, мы свои, родные, собственные”. Разве легко преодолеть искушение их принять, взять себе, присвоить?
Вот и мне не удалось избежать соблазна поведать бумаге то, что я услышал за долгие многомесячные вечера от моего ровесника, сослуживца, коллеги, единомышленника и единоверца. Конечно, с его полного согласия. Он не отказался стать этаким собирательным образом, представителем нашего поколения, лирическим героем моего повествования. А для большей достоверности и документальности, я решил подать его прямым текстом, от первого лица. Пусть Женя Зайдман сам расскажет о своей жизни.

Часть I
Летели дни, за годом год
Глава 1
В пеленках времени
Моя встреча с товарищем Сталиным
Впервые я открыл рот в большом помещичьем доме, поныне стоящем на высоком берегу второй по величине московской реки Яузы. Нет, я не был ни сыном помещика, ни дитём господского конюха. Просто-напросто этот украшенный алебастровой лепниной трехэтажный особняк русская революция превратила в родильный дом Сталинского Райздравотдела гор. Москвы. Правда, теперь в XXI веке он снова стал частной собственностью, наверно, уже каких-то новых русских.
В 9 часов вечера 14 мая 1932 года моя девятнадцатилетняя мама, наконец, перестала страдать-мучиться, и не столько от родовых схваток, сколько от огорчения, что я оторвал ее от праздничного стола в доме № 6 на Суворовской улице. Дело в том, что именно в этот момент там был поднят очередной тост в честь юбилея серебряной свадьбы ее родителей, моей бабушки с дедушкой.
Тот год был знаковым не только для нашей отдельной семьи, но и для всей страны.
Магическим образом свернулся, сжался календарь: большевикам оказалось подвластно время – первая пятилетка стиснулась до четырехлетки. А ее конец стал началом целой новой эпохи, эры промышленной революции. На вздернутое Октябрем 17-го рабоче-крестьянское население страны в тот год уже вовсю обрушилась индустриализация, коллективизация, а интеллигенцию скучковали в “Академию художников”, “Союз писателей” и другие поднадзорные загоны культуры и искусства.
Мне еще не стукнуло 2 месяцев, как был принят и пресловутый закон о колоске (“Об охране имущества государственных предприятий…”), по которому любой подросток, сорвавший в поле колосок ржи, мог загреметь “на перековку” в соловецкий лагерь. Вслед за этим грянул свирепый голодомор в Поволжье, на Украине, в Нечерноземье.
Наверно, из-за продуктово-витаминной нехватки я появился на свет хилым, слабым, худосочным. С первых же дней мое вхождение в жизнь было неуверенным, нерешительным. Я преступно медленно прибавлял в весе, который сильно отставал от нормы и совершенно не отвечал стандартам здоровья будущих строителей Социализма. Но приходившая к нам домой участковая педиаторша мою ущербность валила не на недостачу еды, а на недобросовестность моей юной мамы-студентки, обремененной более, чем мною, курсовыми работами, зачетами и экзаменами весенней сессии в педагогическом институте.
– Если вы, мамаша, – строго предупредила она ее, – не отнесетесь серьезнее к тому, что у вас слабый ребенок, вы его потеряете.
Но и после этого назидания я не стал богатырем. В течение всего своего мало-сытного пеленочного детства оставался хилягой – худым, малорослым, узкогрудым, болезненным. Таких в то время обзывали “глистами”, хотя и на самом деле где-то в моих кишках шерудились зловредные аскариды.
* * *Некоторые люди уверяют, что помнят себя с годовалого возраста. Так, Лев Толстой писал, что его память отчетливо запечатлела грудь своей кормилицы. А другой бородач описал бричку, в которой его новорожденного, якобы, везли от сельской повитухи. Но, кажется, рекорд поставил американский классик научной фантастики Рэй Бредбери, который на своем 90-летнем юбилее сказал корреспонденту: “Я прекрасно помню момент моего рождения. Я помню себя и до рождения. Помню мягкий розовый свет, обволакивавший меня”.
Мне же чемпионом быть не дано. Мое первое воспоминание относится лишь к 4-летнему возрасту. Память сохранила ощущение горячеватости морской воды в железной оцинкованной ваночке на пляже одесского дачного Люсдорфа, где меня таким образом лечили от эпидемически распространенного в те голодные годы детского рахита.
Другое воспоминание относится тоже к поправке моего слабого здоровья, поверженного подхваченной где-то убойной скарлатиной. Из затемненного изморозью оконного стекла больничной палаты я, жалкий, заплаканный, с размазанными по щекам соплями, выглядываю на заснеженную улицу, откуда машут мне натужено улыбающиеся мама, бабушка и тетя Роза.
А вот еще сцена. Мы сидим за столом, и мама, учившаяся на физмате, показывает мне пылинки в солнечном луче – пытается на их примере объяснить, что такое молекулы и атомы. А мой отказ слезть со стула и поднять выпавший у меня из рук на пол кусок хлеба с маслом она осуждает с позиции теории массообмена, доказывающей, что промедление его поднятия грозит еще большему загрязнению.
Среди других дошкольных воспоминаний – приезд из Ленинграда маминого друга юности, а тогда известного поэта Всеволода Азарова (на самом деле, Лёни Бронштейна). Не знаю, кажется, ему (а, может быть, еще кому-то) принадлежали слова звеневшей тогда из радиорупоров милитаристской песни “Кони сытые бьют копытами, встретим мы по-сталински врага…” Мне особенно запомнился рассказ именитого гостя о его встречах с вывезенными из воюющей Испании детьми моего возраста. Кстати, с некоторыми из них позже я работал и приятельствовал (в перестроечные времена большинство их вернулось на родину).
Ну, и конечно, наиболее ярко высвечивается в памяти то, как я, сжимая коленками голову отца, в стройной колонне сотрудников его института демонстрировал 1-го мая на Красной площади преданность партии и правительству. Вначале с досадной беспомощностью сквозь плотную ограду полотен первомайских плакатов я безуспешно пытался на мавзолее Ленина достать глазами товарища Сталина. Но потом мне вдруг несказанно повезло – в просвете красных знамен быстро промелькнула коренастая фигура великого вождя, приветливо помахавшего мне рукой. Но все равно я не был полностью удовлетворен, так как сильно завидовал счастью черноволосой девочки таджички Мамлакат, обнимавшей Иосифа Виссарионовича на всюду красовавшихся цветастых картинах-плакатах.
В то время вообще со всех стен, как внутренних, так и наружных, за каждым гражданином СССР, кроме главных советских вождей, внимательно следили и зоркие глаза знаменитых писателей, ударников социалистического труда, стахановцев, выдающихся деятелей искусства. Это хорошо укладывалось в многовековые православные традиции русского народа. Стародавние иконы Христа, Богоматери, святых и апостолов удачно замещались образами Чкалова, Водопьянова, Расковой, Гризодубовой и других “сталинских соколов”, летавших к облакам, в стратосферу и на Северный полюс.
Не знаю, какими они все были героями, но с одним из них Иваном Папаниным позже я встречался, когда стал членом Всесоюзного географического общества, а он был его председателем. Этот обласканный властью околонаучный деятель с кругозором фабричного завхоза тогда показался мне туповатым малообразованным мужиком, хотя и явным хитрованцем.
Выправляли нам извилины в мозгах и прямоточные лозунги типа “Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство” или “Народ и партия едины”. Разного рода агитпризывы, напоминания и предупреждения постоянно сопровождали нас даже в повседневном быту. Так, над входом в столовую нашего летнего детского сада в подмосковном Томилине крупные ядовито зеленые буквы строго указывали: “Мойте руки перед обедом”, а на веранде, где мы возились, когда шел дождь, большой фанерный плакат учил, что: “Сморкаться надо только в платок!"
Однако такие позже ставшие широко известными понятия, как репрессии, ГУЛАГ, враги народа в том моем довоенном прошлом совсем отсутствовали. Скорее всего, родители избегали при мне вести какие-либо разговоры на политические темы.
Лишь через много лет я догадался, что под густо замазанными черной краской пятнами в тогдашних наших школьных учебниках были скрыты физиономии бывших знаменитых военачальников Тухачевского, Косиора, Убаревича. И что грозным низким баритоном, много часов подряд обличавшим по радио неких “фашистских наймитов”, “прихвостней империализма”, “подлых бандитов и шпионов” обладал Главный государственный прокурор-обвинитель Андрей Януарьевич (“Ягуарович”) Вышинский.
Я ничего тогда не знал о проходившем в Колонном зале Дома Союзов суде над “правотроцкистским блоком” и участниками “антисоветского заговора”. Ни о каком крестьянском голодоморе, зеках Беломорканала, лагерях Солихарда, Воркуты, Магадана, ночных “черных воронках” и прочих страшных свидетельств “Великой сталинской эпохи” я и слыхом не слыхивал. Слава Богу, эти беды кровавых 30-х годов прошли мимо моей семьи.
* * *С раннего детства я слыл среди своих сверстников большим “воображалой”. Это не значило, что я слишком задавался, был очень заносчивым и много себе позволял. Нет, просто я много всего выдумывал, сочинял, фантазировал. Причем, не ленился делиться своей брехней и со своими сверстниками. Воспитательница в детском саду даже жаловалась моим родителям, что я по вечерам не даю никому спать, рассказываю всякие небылицы. А позже, когда мои пальцы стали овладевать деревянной ручкой с железным пером № 89, я уверял, что именно им совсем недавно писал сам дедушка Калинин, знаменитый всесоюзный староста.
Каждый раз я так сильно увлекался враньем, что сам начинал верить в истинность своих выдумок, они мне снились по ночам и наутро представлялись полной реальностью. Но, конечно, все мои фантазии без сомнения большей частью были перепевом книжных сказок и рассказов, которые мне читали взрослые.
В моей интеллигентской семье, как и во всей “самой читающей стране мира”, верховодило уважение и даже преклонение перед книгой.
Она всегда была “лучшим подарком”, ее дарили на день рождения и на Новый год, на новоселье и на свадьбу. Книги никогда у нас не были бытовым ширпотребом, и любовь к ним естественно перетекала в страсть к их собирательству. Преодолевая тесноту комнат и узость коридора, везде тянулись к потолку рукодельные и покупные книжные полки и стеллажи.
Еще не умея ходить, я разглядывал в “книжке-малышке” цепкие лапки курочки Рябы и перепончатые крылья мухи Цекотухи. Еще не зная, как завязываются шнурки на ботинках, я узнавал, как теряет лепестки “цветик-семицветик”, как прекрасна и страшна “Снежная королева”. А первой самостоятельно мною прочитанной книжкой были “Мифы древней Греции”, ее обильно иллюстрировали ярко крашеные кентавры, медузы-горгоны, амазонки, занимавшие более половины всех страниц. Одновременно появились и “Басни дедушки Крылова”, привлекавшие внимание человекоподобными зверюшками. Позже, подростком, я входил в жизнь с “Двумя капитанами” и “Томом Сойером”, впервые познавая из них хитросплетения человеческой порядочности и человеческой подлости.
Книги сопровождали меня всю жизнь. Даже во время войны, уезжая в эвакуацию, мои родители в ущерб лишней простыне, кофте, жакету клали в чемодан томик Чехова и перепечатку Бялика. И я с семилетнего возраста нигде и никогда не расставался с разваливающимся от старости изданием 1928 г “А.Пушкин. Сочинения”, среди страниц которой до сих пор лежат засушенные для школьного гербария листочки подмосковной рябины и глянцевые фантики ротфронтовских конфет.
Этот крупноформатный фолиант не покидал меня никогда и нигде. И останется со мной до самого моего конца. Вместе с ним в той же размерности и той же изношенности мой американский книжный шкаф облагораживает и другой букинистический раритет – “В.В.Маяковский. Сочинения в одном томе”, ОГИЗ 1941. Этот футурист-авангардист сыграл немалую роль в становлении моих вкусов и привязанностей. В старших классах, когда уроки литературы давили нас прессом школьной обязаловки, Фонвизиным, Чернышевским, Некрасовым, Толстым, маяковские лесенки были вожделенным глотком свежего воздуха. Недаром я даже сочинение на аттестат зрелости писал по “Облаку в штанах”, “Хорошо” и “Про это”.
В пресловутые брежневские времена я, как и все, копил и таскал на своем горбу тонны макулатуры, чтобы стать счастливым обладателем “Трех мушкетеров” и “Королевы Марго”. В условиях тотального дефицита радовался доставшемуся мне по случаю томику М.Цветаевой и чуть ли не прыгал от радости, получив после выстаивания в длиннющей очереди талон на приобретение полного собрания сочинений Ф.Достоевского.
Оловянные солдатики и остров Реюньон
Первый раз в первый класс я, семилетка, пошел 1 сентября 1939-го, на целый год раньше, чем это в те времена полагалось. Такая сомнительная для меня удача была связана с тем, что и моя мама, только что окончившая свой пединститут, тоже в первый раз пошла в школу работать, причем, специально для меня в ту же № 432 Сталинского района города Москвы.
Первой моей учительницей была некая Агния Петровна, строгая неулыбчивая женщина с тугим пучком волос, завязанных на затылке узкой черной ленточкой.
В течение несколько дней я носил с собой в школу только что подаренного мне деревянного акробатика, которого я никак не мог оставить одного скучать дома. Состоявший из плоских дощечек, он ловко подгибал согнутые в локтях руки и умело прятался в портфеле между тетрадкой по письму и “Азбукой”. Он вылезал из-под парты чаще всего на уроках правописания, когда Агния Петровна брала в руки мел и отворачивалась к грифельной доске. Но, оказалось, что у нее, как у рыбы, неплохо было развито боковое зрение. Для моего Ванечки оно стало роковым. Ему не удалось спрятаться под парту так же быстро, как училке схватить его за чубастую головку.
– Получишь обратно только, когда родители придут, – грозно прошипела она со злой ухмылкой.
Вообще-то я плаксой никогда не был, но на этот раз, придя из школы домой, почти расплакался – так мне было жалко того Ваньку-встаньку. Мама, конечно, меня заверила, что все будет хорошо, и не обманула – действительно, на следующий же день деревянный акробатик снова ко мне вернулся.
– Но учительница на тебя жалуется не только из-за этой игрушки, – сказала мама, наблюдая процедуру возвращения ваньки на законное место в картонной коробке, где его поджидал сильно потертый плюшевый мишка, грузовичек-"петька” (пятитонка), оловянные солдатики и паровозик, склеенный из плотной цветной бумаги.
– Она сообщила, – продолжала мама, – что ты еще и плохо рот открываешь, не отвечаешь, когда тебя о чем-то спрашивают. И потом, – мама помялась немного, затем слегка улыбнулась. – Что же ты нам не сказал, что в первый день описался? Вся парта, Агния Петровна говорит, мокрая была. Надо было попроситься выйти, и все было бы в порядке. Что же ты у нас такой уж стеснительный растешь?
Вот так, увы, и в дальнейшей своей жизни, никогда я смелости ни в чем не проявлял, каким был трусливым застенчивым плюхой, таким и остался.
* * *В моем детстве еще с довоенных лет немалое место занимали зеленые оловянные солдатики, которые долгое время оставались моими главными игрушками. Некоторые из них стояли навытяжку, держа у плеча винтовку или красное знамя. Другие, вытянув штыки чаще всего с обломанными концами, шли на врага в лобовую атаку. Третьи стреляли с колена или в положении лежа. Особенно потертым и потерявшим окрас от частого потребления был у меня пограничник с собакой. Он зорко вглядывался вдаль из-под ладони и сдерживал рвущуюся на нарушителя границы сторожевую овчарку. То был оловянный образ знаменитого героя-пограничника Никиты Карацупы и его легендарного пса Ингуса.