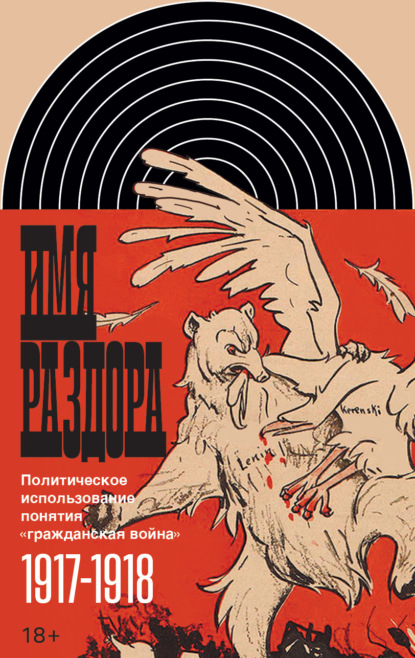Полная версия
Понятия, идеи, конструкции
[Frege 1892] – Frege G. Über Sinn und Bedeutung // Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik. 1892. Band 100. S. 25–50.
[Evans 2009] – Evans N. Dying Words: Endangered Languages and What They Have to Tell Us. Malden, Mass.: Wiley-Blackwell, 2009.
[Foucault 1966] – Foucault M. Les mots et les choses: Une archéologie des sciences humaines. Paris: Gallimard, 1966.
[Gumbrecht 2014] – Gumbrecht H.-U. Our Broad Present: Time and Contemporary Culture. New York: Columbia University Press, 2014.
[Hartog 2015] – Hartog F. Presentism: Stopgap or New State? // Regimes of Historicity: Presentism and Experience of Time. New York: Columbia University Press, 2015. P. XIII–XIX.
[Humboldt 1836] – Humboldt W. von. Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwickelung des Menschengeschlechts. Berlin: Gedruckt in der Druckerei der Königlichen Akademie der Wissenschaften, 1836.
[Jurafsky 1996] – Jurafsky D. Universal tendencies in the semantics of the diminutive // Language. 1996. Vol. 72 (3). P. 533–578.
[Koselleck 1979] – Koselleck R. Vergangene Zukunft: Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979.
[Koselleck 2004] – Koselleck R. Einleitung // Geschichtliche Grundbegriffe: historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland / Hrsg. von O. Bruner, W. Conze, R. Koselleck. B. I. Stuttgart: Klett-Cotta, 2004 [1972]. S. XIII–XXVII.
[Koselleck 2006] – Koselleck R. Begriffsgeschichten: Studien zur Semantik und Pragmatik der politischen und sozialen Sprache. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2006.
[Leavitt 2010] – Leavitt J. Linguistic relativities: language diversity and modern thought. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
[List of university mottos 2018] – List of university mottos. List of university mottos // Wikipedia. 2018. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_university_mottos.
[Meillet 1906] – Meillet A. Comment les mots changent de sens // L’Année sociologique 1905–1906. 1906. P. 1–38. Перевод этой статьи см. в настоящем сборнике.
[Pocock 2006] – Pocock J. G. A. Foundations and moments // Rethinking the Foundations of Modern Political Thought / Ed. Annabel Brett, James Tully with Holly Hamilton-Bleakley. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. P. 37–49.
[Silverstein 2004] – Silverstein M. «Cultural» Concepts and the Language-Culture Nexus // Current Anthropology. 2004. Vol. 45 (5). P. 621–652.
[Skinner 1989] – Skinner Q. The State // Political Innovation and Conceptual Change / Ed. T. Ball et al. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. P. 90–131.
[Skinner 1998] – Skinner Q. Liberty before Liberalism. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
[Skinner 2008] – Skinner Q. Hobbes and Republican Liberty. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
[Spitzer 1942] – Spitzer L. Milieu and Ambience: An Essay in Historical Semantics // Philosophy and Phenomenological Research. 1942. Vol. 3.1. P. 1–42; Vol. 3.2. P. 169–218.
[Spitzer 1968] – Spitzer L. Essays in Historical Semantics. New York: Russell & Russell, 1968 [1947].
[Thiergen 2006] – Thiergen P. Russische Begriffsgeschichte der Neuzeit: Beiträge zu einem Forschungsdesiderat / Hrsg. von P. Thiergen. Köln: Böhlau, 2006.
[Williams 1985] – Williams R. Keywords: a vocabulary of culture and society. Rev. ed. New York: Oxford University Press, 1985.
Как слова меняют значение (1906)[20]
Антуан Мейе[21]
IДля существования языка необходимы прежде всего человеческие сообщества, которым он в свою очередь служит незаменимым и постоянно используемым инструментом; если не считать исторических случайностей, границы различных языков обычно совпадают с границами социальных групп, именуемых народами; отсутствие языковой общности – признак государства молодого, как в случае Бельгии, или искусственно созданного, как в случае Австрии; следовательно, язык – это в высшей степени социальное явление. Язык действительно точно подпадает под определение, предложенное Дюркгеймом: он существует независимо от каждого из говорящих на нем индивидов, и, не имея никакой реальности вне совокупности этих индивидов, он тем не менее, в силу своего общего характера, внеположен по отношению к каждому из них; на это указывает и то, что ни один из них не в силах его изменить, и то, что любое индивидуальное отклонение в употреблении вызывает реакцию, которая чаще всего сводится к высмеиванию того, кто говорит не так, как все; однако в современных цивилизованных государствах эта реакция может иметь и более серьезные последствия, вплоть до недопущения до государственных должностей, посредством экзаменов, тех, кто не способен соответствовать языковой норме (bon usage), принятой в той или иной социальной группе. Итак, те свойства внеположенности индивиду и принуждения, с помощью которых Дюркгейм определяет социальный факт, со всей очевидностью проявляются и в языке.
Тем не менее лингвистика до сих пор существует в отрыве от совокупности социологических наук, столь деятельно заявляющих о себе, и, что еще более существенно, чуждается практически любого систематического рассмотрения социальной среды, в которой развиваются языки. Такое положение дел, на первый взгляд удивительное и парадоксальное, можно объяснить, если принять во внимание обстоятельства возникновения лингвистики; языки обыкновенно изучаются не ради них самих; все те, кто занимался их изучением, делали это с целью точного исполнения религиозного ритуала, понимания древних религиозных или юридических текстов, усвоения иностранных языков или же наконец для того, чтобы правильно говорить или писать на языке большой социальной группы, разошедшемся с обыденным языком и особенно с языком различных частей этой группы; изучают лишь те языки, на которых не говорят естественным образом, и делается это для того, чтобы получить возможность ими пользоваться. Главной целью лингвистических исследований повсеместно являлась практика, и вследствие этого рассматривались не процессы, приводящие к сохранению и развитию языков, а конкретные факты: произношение, слова, грамматические формы и построение фраз.
В результате лингвистика оказалась в выигрыше, так как она обрела строгую объективность и разрабатывалась методически в то время, когда большинство других социальных наук еще не существовали либо представляли собой лишь расплывчатые идеологии; однако все, чего можно достичь, не выходя за узкие рамки рассмотрения языковых фактов, – это установить между этими фактами более или менее определенные отношения одновременности или последовательности, так и не определив общие условия их возникновения и становления, то есть так и не определив их причины.
Уже был сделан большой шаг вперед: лингвистика вышла за пределы древней грамматики в тот момент, когда была поставлена задача определить, с одной стороны, анатомические и физиологические условия артикуляции, а с другой – психические явления, воздействующие на человеческий язык. Тем самым мы приблизились к тому, чтобы постичь смысл большого числа лингвистических фактов, имеющих непосредственное отношение либо к психологии, либо к физиологии. Однако с самого начала было очевидно, что эти факты не удастся объяснить исключительно физиологическими и психологическими соображениями; в то время как процессы реализации фактов языка отчасти прояснились, определяющие их причины остаются столь же темными; стало понятнее, как развиваются языки; но все еще неизвестно, какими действиями определяются те явления инновации и консерватизма, совокупность которых и составляет историю языка. Между тем во всем этом нет ничего неестественного: если среда, в которой развивается язык, – это социальная среда, если функция языка – сделать возможными социальные отношения, если язык поддерживается и сохраняется лишь этими отношениями, если, наконец, границы языков, как правило, совпадают с границами социальных групп, то очевидно, что причины, от которых зависят языковые факты, должны иметь социальную природу и что только рассмотрение фактов социальных позволит лингвистике перейти от изучения голых фактов к определению процессов, то есть от изучения предметов к изучению действий, от установления и констатации связей между сложными явлениями к анализу относительно простых фактов, каждый из которых рассматривается в своеобразии его развития.
Как только проблема оказывается поставлена таким образом, сразу же выясняется, что факты, неразличимые при рассмотрении с чисто лингвистической точки зрения, на самом деле разнородны. Например, переход французского сочетания wè (отображаемого на письме как oi, в соответствии с древним написанием, которое уже в XIII веке перестало быть точным) в wa в таких словах, как moi ‘я’, roi ‘король’, boire ‘пить’ и т. д., произошел в Париже в результате спонтанного фонетического процесса, который должен был совершиться, независимо и неизбежно, в каждом, кто учился говорить в определенный период времени; в других местах этот же переход происходил благодаря имитации парижского языка и представлял собой факт заимствования; он мог получить там такое же распространение, как в Париже; тем не менее это явление другого порядка; лингвист в строгом понимании может смешать эти два типа фактов; и он даже неизбежно смешает их в тех случаях, когда у него нет сведений о том, каким образом в двух областях получился одинаковый результат; однако если он попытается определить причины этого, он сможет сделать это только тщательно различая эти два процесса и только тогда, когда у него есть возможность их разделить; так как, с одной стороны, он столкнется с типом спонтанной фонетической инновации, физиологическая природа развития которой уже исследована с большой точностью для большого числа случаев и даже общие модальности которого определены (как это было сделано для некоторых трансформаций М. Граммоном [M. Grammont]), хотя ее движущие причины не становятся от этого менее темными и загадочными; с другой стороны, он столкнется с вытеснением местных наречий французским – с историческим фактом, непосредственные причины которого ясны и который относится к общему типу вытеснения большими, общими языками цивилизации отдельных языков малых местных сообществ.
Во втором явлении проявляется тенденция, которая заставляет членов одной социальной общности соответствовать друг другу во всем, что полезно для выполнения их совместных функций. Первое же явление – спонтанный переход – само по себе можно объяснить одним и тем же действием, которое должны были совершить одним и тем же способом все дети, рожденные в Париже в течение определенного периода времени. Здесь принципиально различие между двумя процессами; по сути же дела ясно, что надеяться определить природу этого прямого действия можно только в том случае, если его удалось сперва точно локализовать.
IIГруппа лингвистических фактов, для которых действие социальных причин в настоящее время опознается с наибольшей уверенностью и определяется с наибольшей точностью, – это инновации, привносимые в значение слов[22]. Однако, в соответствии с только что сформулированным принципом – принципом различения процессов, – не следует представлять себе все изменения значения одним и тем же общим образом.
Первая классификация изменений значения была, разумеется, классификацией логической; она была построена на различиях в распространении и понимании слов; изменения значения представлялись так, как если бы они были обусловлены разного рода метафорами. Эти априорные представления все еще всецело преобладают в небольшой книге Арсена Дарместерера о «жизни слов» [ «Vie des mots»].
В своей рецензии Мишель Бреаль, прежде всего отметив элемент схоластики в данном методе, выявляет психическую и социальную реальность, скрывающуюся за этими абстракциями (см. статью «История слов», перепечатанную в: Essai de sémantique, 3-е изд., с. 279 и далее). Впоследствии Бреаль вернулся к этим наблюдениям в Essai de sémantique и разработал их со свойственными ему тонкостью и чувством реальности, не следуя, однако, принципу полного и исчерпывающего исследования.
С другой стороны, относительно недавно [Вильгельм] Вундт в своей книге «Sprache» посвятил изменениям значения большую главу и показал, посредством какой сложной игры ассоциаций и апперцепций слова меняют свое значение, решительно замещая априорные подразделения логиков подробным рассмотрением психической реальности; продолжать рассуждать о языковых метафорах в расплывчатых терминах, как это слишком часто делали до сих пор, стало более невозможно. Однако сам Вундт не оспаривает того, что ассоциациями объясняется далеко не все, и было бы легко показать, что хотя ассоциация и является важной составляющей психических фактов, играющих роль в изменении значения, она ни в коем случае не является той движущей причиной, которая их определяет; то, что исследования значения слов в их развитии не привели пока, несмотря на многочисленные попытки, к построению полной теории, связано с тем, что факты все еще предпочитают угадывать, не прилагая усилия к тому, чтобы проследить историю слов и из рассмотрения этой истории вывести строгие принципы. Ничуть не в меньшей степени, чем в семантике, определить априори условия возникновения явлений такого рода невозможно, так как ни в одной области лингвистики эти условия не представляются более сложными, многообразными и разнящимися от случая к случаю.
Тем не менее можно сказать, что хотя из‐за отсутствия достаточных сведений часто – а возможно, и в большинстве случаев – оказывается невозможно определить условия конкретного изменения значения, общие причины этих изменений в настоящее время в целом известны, и достаточно систематически классифицировать наблюдаемые факты и найденные им надежные объяснения, чтобы увидеть, что под рубрикой изменений значения объединяются факты совсем разной природы и относящиеся к совершенно различным процессам, вследствие чего их изучение не может проводиться в рамках одной лингвистической области.
Прежде чем перечислить процессы, приводящие к изменению значения, важно вспомнить о том, что языковые явления обладают характерной специфичностью и что движущие причины, которые будут рассмотрены ниже, оказывают воздействие не сами по себе, а только в сочетании с фактами особого рода – языковыми фактами.
Следует учитывать прежде всего принципиально прерывный характер передачи языка: ребенок, который учится говорить, не получает язык в готовом виде: он должен воссоздать его в своем употреблении целиком на основании того, что он слышит вокруг себя, и практический опыт показывает, что маленькие дети поначалу приписывают словам значения, сильно отличающиеся от тех, что вкладывают в те же слова взрослые, от которых дети эти слова узнают[23]. Поэтому если в результате постоянного действия одной из тех причин, которые будут рассмотрены ниже, в языке взрослых какое-то слово часто употребляется особым образом, внимание ребенка привлекает именно это обычное значение, старое же значение слова, которое еще преобладает в представлении взрослых, в новом поколении стирается; рассмотрим, к примеру, слово saoul, старое значение которого – ‘пресыщенный’; это слово стали употреблять применительно к пьяным, «пресыщенным выпивкой»; первые, кто начал употреблять таким образом слово saoul, выражались в ироническом смысле и стремились избежать грубого, но точного слова ivre ‘пьяный’, однако услышавший их ребенок попросту связал со словом saoul образ пьяного человека, и таким образом saoul стало синонимом слова ivre и даже вытеснило его в повседневном употреблении, так что теперь уже слово saoul выражает эту идею в более резкой форме. Самой по себе прерывности в передаче языка недостаточно, чтобы что-либо объяснить, но без нее никакая причина изменений не могла бы преобразовать значение слова столь радикально, как это произошло в большом числе случаев: в целом именно в прерывности передачи состоит первое условие, которое определяет как саму возможность, так и модальности всех языковых изменений; один теоретик даже пошел так далеко, что попытался объяснить прерывностью все языковые изменения (см.: Herzog Е. Streitfragen der romanischen Philologie. I).
Если говорить собственно об изменении значения, важным обстоятельством является то, что слово – как произнесенное, так и услышанное – практически никогда не вызывает образ предмета или действия, которые оно обозначает; как справедливо отмечает Фредерик Полан (M[onsieur Frédéric] Paulhan), слова которого приводит Эжен Лерой (M[onsieur Eugène] Leroy (Le langage, p. 97), «понять слово, фразу – это значит не составить образ реальных предметов, которые представляет это слово или эта фраза, но почувствовать в себе слабое пробуждение разного рода стремлений, которые вызывает восприятие представленных этим словом предметов». Образ, который представляется сознанию столь редко и к тому же столь нечетко, поддается изменениям без большого сопротивления.
Все изменения формы или употребления, которые претерпевают слова, косвенным образом способствуют изменению значения. Пока слово сохраняет связь с определенной группой лексических образований, оно поддерживается общим значением всего типа и его значение характеризуется вследствие этого некоторой устойчивостью; но если по какой-либо причине группа распадается, различные составляющие ее элементы более не поддерживают друг друга и оказываются открыты различным влияниям, которые часто приводят к изменению значения. Рассмотрим, например, латинское прилагательное vivus: в латыни оно неотделимо от глагола vivere ‘жить’, от существительного vita ‘жизнь’ и т. д., а следовательно, никак не могло бы утратить значение ‘живущий’. Но с того момента как произношение отделило, как это произошло во французском, прилагательное vif от глагола vivre и корневая общность со словом vie перестала быть различимой, на первый план мог выйти оттенок значения, присутствовавший уже в латыни – значение ‘подвижный, оживленный’.
Такое слово, как tegmen, которое восходит в латыни к прозрачному и продуктивному типу образования, вследствие этого неотделимо от глагола tegere ‘закрывать’ и сохраняет свое общее значение ‘покрытие, покров’. Такое существительное, как tectum, напротив, принадлежит к типу образования, который в латыни уже не продуктивен, и потому оно смогло получить специальное значение – ‘крыша’; другое существительное, принадлежащее в том же языке к столь же непродуктивному типу образования, – tegula – приобрело еще более узко специализированное значение: ‘черепица’; наконец, toga – очень древнее и практически уникальное в своем роде латинское образование – в наибольшей степени удалено по значению от основной группы, включающей tegere и tegmen, и описывает вид одежды.
В латыни слово captivus ‘пленник’ было напрямую связано с capere, captus и т. д., и потому значение ‘пленный’ не могло быть потеряно из виду; однако глагол capere был отчасти утрачен, сохраняясь лишь в специальных значениях, и в романских языках значение ‘брать’ выражается дериватами prehendere; c этого момента слово captivus было отдано на милость внешним воздействиям и приобрело значение ‘жалкий, плохой’ в итальянском (cattivo) и во французском (chétif; региональное cheti на большей части территории Франции означает ‘плохой’).
В немецком слово schlecht, означавшее ‘единый, простой’, приобрело, под влиянием schlichten ‘объединять, выравнивать, распутывать’, слово-дублет schlicht; поскольку schlicht было связано с schlichten, оно сохранило старое значение, в то время как прилагательное schlecht, очутившись в изоляции, претерпело сильные изменения; ein schlechter mann получило значение ‘простой человек, человек из низшего сословия’, в противопоставлении людям, занимающим более или менее высокое положение; в аристократическом обществе, каким было общество XVIII века, где сословия были четко разграничены, ein schlechter mann не пользовался почетом, это был человек незначительный, никчемный, и слово schlecht таким образом повторило путь, пройденный словом captivus в романских языках: оно стало означать попросту ‘плохой’, и это значение полностью закрепилось уже в начале XIX века.
Французское диалектное maraud ‘кот’ послужило основой глагола marauder ‘безобразничать’ (faire le matou); в Берри, где слово maraud выходит из употребления, производный глагол marauder, исходно означавший ‘громко мяукать’, стал употребляться применительно к действию ‘шумно и неприятно плакать’ (по большей части презрительно); литературный французский, в котором слова maraud никогда не было, заимствовал marauder в значении ‘красть’, с особым оттенком значения; несомненно, ни одно из этих изменений значения не было доведено до конца с такой полнотой в тех диалектах, в которых слово maraud ‘кот’ cуществовало (см. данные в: Sainean. La création métaphorique en français et en roman. I. [Halle, 1905]. Р. 73, 84). – Примеры такого рода бесчисленны.
С другой стороны, рассмотренные языковые условия – будь то прерывность при передаче языка или изоляция отдельных слов – всегда являются в каком-то смысле отрицательными; они обеспечивают языковую возможность изменения значения, но не могут его предопределить; это необходимые, но не достаточные условия. Движущие причины инноваций еще предстоит выявить.
Общие причины, которыми можно объяснить изменения значения, по-видимому, можно отнести к трем большим типам, которые не сводятся один к другому и соответствуют трем видам различных действий; результатом является, во всех трех случаях, изменение значения, и потому лингвист склонен рассматривать их вместе; тем не менее эти три процесса принципиально различны и в действительности не имеют между собой ничего общего, кроме результата, так что в рамках по-настоящему научного исследования их следует рассматривать по отдельности.
Некоторые изменения, относительно немногочисленные, происходят по собственно языковым причинам: их источник – структура некоторых фраз, в которых данное слово, как кажется, играет особую роль. Так, в отрицательных, вопросительных или условных предложениях слово с общим значением, такое как homme ‘человек’ или chose ‘предмет’, часто передает совершенно неопределенное значение; как уже было отмечено, слова не вызывают обычно ясный образ тех предметов, с которыми они связаны; обороты такого рода, очень расплывчатые сами по себе и сделавшиеся еще менее выразительными вследствие частого повторения, не вызывают никакого образа ни у говорящего, ни у слушающего. Современное армянское marth ‘человек’ в таких выражениях, как marth tch ga, «ни один человек не присутствует здесь (= здесь никого нет)», или marth egaw, «человек пришел? (= кто-то пришел?)», уже имеет совершенно неопределенное значение; точно так же слово manna ‘человек’ употребляется в текстах на готском – древнейших германских текстах, которыми мы располагаем. Таким образом, слово «человек» имеет тенденцию приобретать неопределенное значение, и именно в результате такого процесса приобрели свое характерное значение французское on (продолжение латинского homo) и немецкое и английское man (соответствующее готскому manna). Латинское alter означало ‘другой’, когда речь шла о двух объектах, то есть ‘второй, один из двух’; в отрицательном предложении, однако, alter практически не отличается по значению от alius ‘другой, по отношению к более чем двум’; фразу Овидия neque enim spes altera restat можно перевести либо как «нет второй надежды», либо как «нет другой надежды», без принципиального различия в значении. Слово alter приобрело в выражениях этого типа значение alius; это значение было перенесено на некоторые другие фразы, и романские языки, утратив alius, сохранили для выражения значения ‘другой’ только alter. К окончательной утрате противопоставления между сравнением двух объектов (тип validior manuum, «более сильная из двух рук») и сравнением множественных объектов (validissimus virorum, «сильнейший из мужей») привело исчезновение сравнительной и превосходной степени. Точно так же, под влиянием ne, французские слова pas, rien, personne приобрели в отрицательных предложениях отрицательное значение, так что отрицание ne в современном французском стало ненужным, тогда как pas, rien, personne в простом разговорном языке стали передавать отрицание сами по себе. Латинское слово magis ‘более, больше’ в начале фразы, где оно начало употребляться уже в латыни, служило связкой между двумя предложениями и превратилось во французское mais. Как мы видим, все эти чисто языковые процессы не столько приводят к изменению значения, сколько преобразуют слова с конкретным значением в простые грамматические средства, в элементы построения фразы. Это следует непосредственно из самой природы данного процесса.